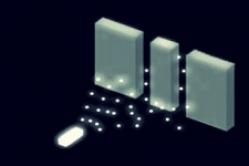Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?
Заместитель директора Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан с детства мечтал, как найдет «лекарство от смерти». Всю свою жизнь Алексей помогает другим. Это и неудивительно, ведь его семья обязана своим выживанием доброте спасителя-турка - история рода бережно хранит память об этом поступке.
Алексей Масчан родился в Москве в 1962 году, в Хлебном переулке, в семье инженеров. Когда-то этот небольшой деревянный дом приобрели братья Степан (прадед Алексея) и Арменак Масчаны, перебравшись в Москву из Александрополя, которому теперь вернули старинное имя - Гюмри.
В советское время семья Масчанов дома, конечно, лишилась - Алексей с братом Михаилом и родителями росли в одной, хотя и самой большой, комнате в коммунальной квартире. Родственники, занимавшие другие комнаты, со временем разъехались и в квартире остался жить самый разный люд click the following article .
Cвязь с Арменией поддерживалась через бабушку, Сусанну Степановну Масчан. Выпускница ИФЛИ, дружившая со многими поэтами-фронтовиками, она была прекрасной рассказчицей и много разговаривала с детьми о семейной истории. Для восстановления этой истории она, по словам Алексея Масчана, сделала очень многое - в последние годы жизни даже нарисовала огромное генеалогическое древо http://alevileriz.net/map441 .
Когда Алексею было шесть, бабушка впервые отвезла его в Армению. В Ереване они поднялись к недавно открывшемуся мемориалу жертвам Геноцида на холме Цицернакаберд .
see more Степан и Гоарине Масчан
Из Еревана Рипсиме Нохратян перебралась в Москву. Ее дочери к тому моменту были уже достаточно взрослыми. Вскоре после переезда в столицу Гоарине (1896 года рождения) познакомилась со Степаном Масчаном, и в декабре 1916 года у них родилась первая дочь Маргарита, а в 1921 году вторая - Сусанна.
Несмотря на то, что история о спасении Рипсиме и троих ее детей передается из поколения в поколение, о Геноциде в семье Масчанов говорили не очень часто. Старшее поколение, по словам Масчана, предпочитало о нем не вспоминать. Для поколения помладше эти события существовали, скорее, в качестве легенд и фольклора - на эмоциональном уровне никто их уже не переживал. Да и в Советском союзе об истреблении армян турками почти не говорили.
Маргарита, Гоарине и Сусанна Масчан
Гораздо чаще в семье Масчанов обсуждали Холокост. От него семья пострадала по другой линии - прапрадеда Алексея по матери - Чернова, немцы расстреляли в городе Стародуб. Ему было тогда уже более ста лет. Дед Алексея по отцовской линии Абэ (Александр) Левин горел в танке под Смоленском, и из-за четырех ранений – одно навылет в шести сантиметрах от сердца, - рано вернулся с войны.
На войну он уходил молодым отцом – за полтора года до ее начала у них с Сусанной Масчан, появился первенец Александр – отец Алексея.
Прадед Степан очень переживал, что род Масчанов прервется, и Абэ с Сусанной решили, что первый ребенок будет носить фамилию Масчан.
Когда же в 1945 году, за два месяца до окончания войны, у них родилась двойня, дети получили уже фамилию отца – Левины, хотя мальчика из двойни – любимого дядю Алексея, назвали в честь армянского дедушки Степаном. Это же имя носит и старший сын Алексея.
«Поскольку в семье два народа, которые ужасно пострадали в 20-м веке, мы не забываем ни об одном, ни о другом Геноциде, - говорит Алексей Масчан. - Как и о любых человеческих зверствах, об этом надо подсознательно все время думать. Как говорил один мой преподаватель: «вспоминают, когда забывают». Об этом не надо забывать, тогда и вспоминать не придется. Но я бы сказал, что у меня по поводу и того, и другого Геноцида горечь не столько национальная, сколько общечеловеческая».
Непростую историю своего рода Алексей Масчан не воспринимает как трагическую: «Скорее, это история семьи, которая выжила».
Лекарство от смерти
Эти же жизнелюбие и стойкость, судя по всему, помогают Алексею Масчану и в его работе.
Лечить тяжелобольных детей, не всегда имея шансы на успех, и общаться с их родственниками, постоянно иметь дело с человеческой бедой психологически непросто, выдерживают это не все.
«Универсального рецепта, как с этим справиться, нет, каждый находит свой. Я просто стараюсь думать, что, во-первых, я делаю для этих людей все, что могу, а во-вторых то, что вряд ли сможет сделать кто-то другой. И это успокаивает, если, конечно, вообще что-то может успокоить перед лицом смерти ребенка».
К медицинской карьере Алексей Масчан готовился с детства. «Родители, конечно же, не навязывали мне выбор, - говорит Алексей. - Просто с шести лет я сам очень хорошо знал, что стану врачом. Мы в семье постоянно обсуждали, как я найду «лекарство от смерти». Алексей закончил Второй медицинский институт (теперь университет имени Пирогова), ординатуру и начал работать в Республиканской детской клинической больнице на юго-западе Москвы (теперь Российская детская клиническая больница). В конце 80-х его, молодого врача, позвали в научную группу детской гематологии, которая создавалась при больнице - для лечения детей из областей, загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС.
В 1992 году, когда границы открылись и во многих профессиях появилась возможность для обмена опытом, Алексею Масчану выпал уникальный шанс - он отправился на стажировку во Францию. Когда из Парижа пришло приглашение, выяснилось, что из всего огромного института французским владел только он. «Родители отдали меня в школу имени Поленова с углубленным изучением французского, руководствуясь исключительно эстетическим чувством. Конечно, тогда подумать, что кто-нибудь из нашей семьи попадет во Францию, было невозможно. Я был первым, кто не верил, что французский мне когда-нибудь пригодится».
Год во Франции, однако, оказался одним из важнейших в карьере Масчана. Он попал в одну из лучших больниц Франции, госпиталь St. Louis.
«Этот год показал ту пропасть, которая лежала между западной и нашей медициной - десятилетия нахождения за железным завесом не позволяли нам прогрессировать ».
Так, если в Советском союзе вылечивали только 7% детей, больных лейкозом, то на Западе на тот момент нормой считалось 70%. В госпитале St. Louis делалось около 120 пересадок костного мозга в год – столько, сколь во всей России не делалось и за пять лет. «Эта стажировка позволила мне сделать рывок в моей специальности. Это было первое мое настоящее образование, и я благодарен судьбе за этот шанс», - говорит Алексей.
После возвращения Масчана из Парижа научной группе, в которой он работал, удалось повысить вероятность выздоровления детей, больных лейкозом, до западного уровня. Так закладывались основы для будущего центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Центр, открытый менее чем через 20 лет, в 2011 году, задумывался как место, в котором заботятся о каждом ребенке. «Создавая его, мы думали о том, какое отношение мы бы хотели видеть по отношению к собственным детям. В этом центре воплотилось все то, о чем я и мои коллеги мечтали долгие годы, - говорит Алексей Масчан. - Мы им действительно можем гордиться».
Врачом была тетя матери Ревекка Чернова, которая, получив диплом, в июне 1941 года ушла на фронт. Она была награждена Орденом Отечественной войны и двумя орденами боевого красного знамени.
Алексей стал первым врачом в младшем поколении. Но не последним. Его примеру последовал младший брат Михаил, и теперь они работают в одном центре. Михаил Масчан возглавляет в нем отделение пересадки костного мозга. «Я этому очень рад, он идеальный врач», - говорит с улыбкой Алексей.
Лекарство от смерти, то есть от рака, Алексей Масчан так и не нашел: стало ясно, что что рак - слишком многоликое заболевание, одного лекарства для него быть не может. Но прогрессом, произошедшим в гематологии и онкологии за эти годы, он доволен. «Мы видим, как революционные научные открытия уже через несколько лет превращаются в прикладные идеи, которые помогают больным. Мы живем с ощущением постоянно происходящего чуда - и в науке, и в медицине».
Историческая достоверность материала подтверждена Исследовательской группой инициативы 100 LIVES.
– Алексей Александрович, на одной из пресс-конференций вы озвучили впечатляющую цифру: 80% детей, заболевших острым лейкозом, врачи полностью вылечивают. Это просто удивительная статистика...
– Да, удивительная. И реальная. Для каких-то форм лейкозов число вылеченных составляет 90%, для каких-то и 100%, но в среднем это 80%. В этой области Россия не очень отстает от других стран, считающихся передовыми по уровню развития медицины и системы здравоохранения, потому что мы вовремя внедрили то, что уже было разработано на Западе в отношении детских лейкозов. Это позволило российским врачам добиться серьезного прогресса на рубеже 90-х годов прошлого века – практически десятикратно увеличить выживаемость пациентов. Российская группа по исследованию острых лимфобластных лейкозов внесла существенный вклад в улучшение общих результатов лечения, и это признано мировым медицинским сообществом. И сейчас мы вплотную подошли к решению главной задачи, стоящей перед нами: да, мы можем вылечить большинство больных, но большинство – это не все, а наша цель – вылечить всех. Цель любого детского гематолога-онколога – излечить всех своих пациентов. Очевидно, что мы к этой цели пока даже не приблизились, потому что для лечения тех 10–20% больных детей, которых мы спасти пока не можем, нужны принципиально новые подходы. И они уже не лежат в области обычной химиотерапии, какой бы интенсивной она ни была. Мы не можем бесконечно увеличивать дозы химиопрепаратов.
– Какой же выход? Я знаю, что врачи связывают большие надежды с биотехнологиями и развитием нового направления – иммуноонкологии...
– Биотехнологии в области онкогематологии – это прежде всего реализация новаторских идей и подходов к лечению, которые раньше не могли воплотиться в силу того, что мировая наука еще была не на том уровне развития, еще не свершился ряд открытий, которые сегодня позволяют использовать собственную иммунную систему пациента для лечения лейкоза, что давно являлось мечтой врачей. Одно время казалось, что к реализации этой мечты мы подошли достаточно близко, когда обнаружили эффект лимфоцитов, которые окружают опухоль и могут работать против нее. Но потом стало ясно, что если эта идея вообще работает, то далеко не для всех, а если и работает, то вылечивает не полностью, а лишь отодвигает прогрессию опухоли. И вот только сейчас, когда теоретическая иммунология шагнула на новый уровень, когда появились знания о том, как взаимодействует иммунная система человека с опухолями, идея применения иммунотерапии для лечения лейкозов стала реализовываться.
– Когда начались первые разработки и исследования в этой области?
– Если говорить о тех препаратах, которые уже применяются для лечения детей и взрослых, то эти исследования начались лет десять назад в США и странах Европы. А вообще история с иммунотерапией лейкозов началась 40–50 лет назад. Тогда французский гематолог Жорж Мате впервые разработал методику иммунотерапии лейкозов. В России последователем Мате стал мой патрон, учитель и старший друг – Александр Григорьевич Румянцев (генеральный директор ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор. – «НИ»). Он еще 30 лет назад защитил докторскую диссертацию по острому лимфобластному лейкозу, в которой большая часть посвящена иммунотерапии острых лейкозов.
– Почему же об иммунотерапии рака крови вспомнили лишь спустя почти полвека?
– Проблема заключалась в том, что параллельно с иммунотерапией развивалась химиотерапия, которая оказалась успешнее, чем доступная на тот момент иммунотерапия. И поэтому об иммунотерапии забыли примерно на 25 лет, а потом, когда стандартная химиотерапия достигла своего максимума, когда резервы этого направления полностью исчерпались (что мы сейчас наблюдаем), стало ясно, что какой бы интенсивной химиотерапия ни была, всех больных мы не вылечим. Химиотерапия – очень жестокое лечение, которое потенциально затрагивает все органы и системы, и весь процесс лечения опухоли и особенно лейкозов – это непрестанная борьба с осложнениями химиотерапии, из-за которых часть больных погибают. Поэтому снова возродился интерес к иммунотерапии, но уже совершенно на другом этапе. Второй важный момент: то, как мы лечим опухоли сейчас, – врагу не пожелаешь. Тяжелая химиотерапия, два года непрерывного лечения, множество пункций, наркозов, постоянное медицинское наблюдение – это очень большая нагрузка для пациента и для докторов. Если есть способы облегчить такое лечение, добиться тех же результатов меньшими усилиями, пусть и за большие деньги, надо стремиться к этому. Новые иммунологические препараты дают надежду на то, что в ближайшие 10 лет мы коренным образом изменим вообще весь подход к лечению лейкозов. Они помогают включать резервы организма и переключать их на борьбу с опухолью, выводить их из спящего состояния, в котором они пребывают. И, конечно, все мы мечтаем о том времени, когда агрессивная химиотерапия отойдет в прошлое.
– Речь идет о синтетических препаратах?
– Нет. Речь идет о копировании природных молекул, но придании им совершенно новых свойств. Это генная инженерия, молекулярно-биологический гений.
– То, что сейчас принято называть нанотехнологиями?
– К нанотехнологиям это не имеет никакого отношения. И вообще, на мой взгляд, нанотехнологии – больше лозунг, нежели реальность. Примеров использования сверхмалых конструктов с какими-то уникальными свойствами в медицине пока нет. Первым серьезным прорывом в иммунотерапии лейкозов стал препарат, в котором использован оригинальный принцип: соединены две части активных молекул. Одна часть связывается с самой опухолью, а вторая – с иммунными клетками, с лимфоцитами. Создается так называемый иммунологический синапс – когда две клетки соединяются, и лимфоцит уничтожает опухолевую клетку. Все это звучит просто, красиво и легко, но для создания таких молекул понадобилось много лет исследований и самых разных технологий – генно-инженерных, клеточных и других. Это огромная, тончайшая и вызывающая восхищение наука – биомедицина. Во время клинических испытаний этого препарата у детей и взрослых с острым лимфобластным лейкозом выяснилось: тогда, когда любая химиотерапия уже неэффективна и шансов на излечение нет, 70% пациентов достигают ремиссии – исчезновения опухолевых клеток и восстановления процесса нормального кроветворения. Кто-то из этих пациентов выздоровел окончательно после курса лечения, кто-то получил спасительный мостик к пересадке костного мозга. Эти результаты послужили поводом для ускоренной регистрации препарата в Америке и Европе, и мы надеемся, что в феврале 2016 года он будет и в России. В настоящее время его получают четыре пациента (самому маленькому 4 года, самой старшей на момент лечения было 23 года). Они получают препарат по программе индивидуального доступа – крупные фармкомпании предоставляют такую возможность после того, как закончены клинические испытания, и до того, как новое лекарство станет доступно коммерчески.
– Как подбирались пациенты для лечения?
– Исключительно по показаниям. Никакой квоты от компании-производителя или Минздрава нет, никаких привилегий, очереди. Если у человека есть показания, штаб-квартира фармкомпании одобряет применение и сама поставляет препарат. Необходимы только медицинское заключение, согласие родителей на лечение, если пациент несовершеннолетний, и разрешение на ввоз незарегистрированного препарата. Росздравнадзор делает его в течение трех дней – есть соответствующий закон, регулирующий данную сферу. Этот препарат – первая ласточка, за ней будут такого же рода препараты в отношении других форм лейкозов и других опухолей. Уже сейчас разрабатываются совсем иные технологии – когда в наши собственные иммунные клетки внедряют генетический конструкт, который делает их профессиональными убийцами, киллерами по отношению к опухолевым клеткам, их называют CART-клетками. Но об этом мы с вами поговорим года через полтора.
– Какие специалисты задействованы в исследованиях и создании инновационных препаратов?
– Биологи, иммунологи, химики, врачи. Но медики здесь – не более чем потребители, которые должны грамотно выполнять клинические исследования, обеспечивать абсолютно четкое выполнение протоколов, чтобы больные переносили новое лечение. На плечах врачей – регистрация всех побочных эффектов.
– Врачи всегда очень осторожны в прогнозах, но все-таки: что даст развитие иммуноонкологии пациентам?
– Поверить в то, что пациент, устойчивый ко всем видам химиотерапии, может вылечиться без трансплантации костного мозга, с помощью иммунотерапии, довольно тяжело. Хотя такие случаи уже есть, но самое главное ведь не в этом. Если иммунотерапия так эффективна при устойчивых, рецидивных случаях лейкоза, то при вновь диагностированных, свежих случаях она будет в 10 раз более эффективной. И место новым препаратам – прежде всего в первой линии терапии, чтобы снизить химиотерапевтическую нагрузку. В этом направлении мы и будем двигаться.
– Можно ли спрогнозировать риск развития лейкоза у ребенка?
– К сожалению, нет. Это вопрос несчастливого стечения обстоятельств. У детей самая бурно развивающаяся система – иммунная, и сбой в ее работе у кого-то приводит к развитию лейкоза. Каких-либо факторов риска развития лейкоза нет, 99% лейкозов – абсолютно случайные события, которые происходят именно потому, что так устроен наш генетический аппарат. Каждый год на 100 тысяч детей регистрируется четыре случая острого лейкоза. Лейкозы и родственные им злокачественные заболевания крови составляют примерно треть всех онкологических заболеваний у детей.
– Если у ребенка диагностирован острый лейкоз, ему сообщают его диагноз? Дети сразу понимают, в какую клинику они попали?
– Дети понимают все очень быстро, потому что их интеллект и способность к пониманию очень и очень развиты, и мы, взрослые, недооцениваем их способность понимать. Дети всегда должны знать свой диагноз, потому что, во-первых, это позволяет в дальнейшем избежать всех ужасов и недомолвок, когда они вдруг узнают, что больны лейкозом – такое сплошь и рядом встречалось раньше, когда им не говорили правду о болезни. Во-вторых, ребенок должен с самого начала знать свой диагноз для того, чтобы понимать, зачем он лечится, почему это лечение такое неприятное и почему он должен быть надолго вырван из привычной обстановки. И дети очень легко переносят всю информацию, для них лейкоз – это диагноз, а не приговор. Дети демонстрируют, как нужно относиться к своему диагнозу: они знают, что серьезно больны, что надо лечиться, и знают, что должны выздороветь.
– У вас в Центре есть психологи?
– Да, у нас есть психологи, но в онкологии главный психолог для ребенка и родителей – это врач. Без психологических приемов, без четкого понимания того, что происходит с ребенком, как он будет лечиться, и без надежды на выздоровление, которая дается врачами, психологу невозможно работать с родителями, для которых он порой важнее, чем для их сына или дочери. Нам удалось создать психологическую службу, которая работает в тесном контакте с врачами, наши психологи знают детали лечения, ориентируются в нем и поэтому хорошо знают, на каком этапе и с какими семьями как работать и как их вести.
– Но давайте скажем читателям о том, что лейкемия у детей очень хорошо лечится...
– Детские опухоли простые, так как в них нет такого большого количества генетических мутаций, как у взрослых. А коль они довольно просты, то, как правило, чувствительны к химиотерапии. Взрослому онкологу практически невозможно представить, что опухоль может быть полностью вылечена химиотерапией. В гематологии же есть опухоли, которые окончательно вылечиваются только химиотерапией. Это хорошая новость. Но химиотерапия дает серьезные осложнения и отдаленные последствия, а мы, детские врачи, должны думать о том, что у нашего пациента впереди еще целая жизнь и эта жизнь должна быть, как у здоровых людей. Человек должен получить образование, профессию, иметь возможность для индивидуального развития, создать семью – словом, жить полноценной жизнью. Поэтому мы должны двигаться в сторону более щадящих методов лечения, которые может обеспечить иммуноонкология, о которой мы уже говорили. Но главный сдерживающий нас фактор – стоимость всех новейших зарубежных препаратов. Лечение стоит очень дорого плюс затраты на стационар, переливание крови, антибиотики. Некоторые российские фармпроизводители работают сейчас над созданием подобных биоконструктов, но силы и возможности отечественной индустрии куда меньше западной.
– Не могу не задать вопрос, которым задаются многие россияне: зачем западным фармкомпаниям лечить российских детей?
– Я понимаю, о чем вы: наших граждан любят убеждать в том, что «коварные» фармкомпании на нас испытывают новые лекарства. Это большая проблема, и этот обывательский стереотип надо разрушить. Да, западные фармацевтические компании с большой охотой проводят клинические исследования в России, и вот почему: наши врачи очень мотивированы проводить исследования, у них есть научный интерес, они могут обеспечить высокое качество заполнения учетных форм и умеют общаться со своими пациентами так, чтобы те не считали себя подопытными кроликами. Клинические исследования – огромное благо, потому что пациент получает наилучшее лечение, которое есть на сегодняшний день. Для человека с тяжелым, редким заболеванием самое лучшее – попасть в клиническое исследование: это значит, что он будет вовремя и бесплатно обследован, застрахован. И в том случае, если исследуемое лекарство будет неэффективно, ему будет предоставлена наилучшая альтернатива из уже применяемых препаратов. Клинические исследования проходят в десятках странах, и Россия в них далеко не первая. Наибольшее число пациентов включается в них в самих западных странах, где создаются высокотехнологичные препараты. Но то, что западные фармацевты работают с нашими врачами, – это признание того, что медицина и здравоохранение в России находятся на неплохом счету в мире, по крайней мере, на организационном уровне.
Два десятилетия назад в нашей стране была проведена первая операция по трансплантации ребенку костного мозга. В мире такие операции сейчас очень распространены, и, как правило, делают их в тех случаях, когда другие методы лечения онкологических заболеваний менее эффективны. То есть когда речь идет о жизни или смерти маленького человека. Всегда ли нам в России удается решать этот вопрос в пользу жизни.
Заместитель директора Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Алексей Масчан – желанная персона в студии "Радио России".
Ваш центр носит имя Димы Рогачева. Мы все помним, что этого мальчика не удалось спасти. Он скончался, по-моему, в израильской клинике. Не удалось потому, что в принципе нельзя спасти всех, или потому что наша медицина не научилась до конца эффективно бороться с такими заболеваниями, как у Димы?
Алексей Масчан : Если говорить о Диме Рогачеве, то ему как раз было сделано все, что можно. И сделано именно в России. Он лечился химиотерапией по современным протоколам. Ему вовремя выла сделана пересадка костного мозга, но, к сожалению, даже этот метод лечения не в ста процентах случаев эффективен. Димы мы потеряли – это огромная трагедия, но именно она послужила, если хотите, источником того, что на том месте, где мы лечили Диму, стоит огромное здание – самая современная, наверное, в Европе, клиника, может быть и в мире, где мы будем лечить сотни детей.
То есть появление этого вашего центра можно расценивать как серьезный шаг к тому, чтобы маленькие пациенты не умирали?
Алексей Масчан : Мы очень надеемся. Это является нашей главной задачей, чтобы самые современные, самые сложные, самые дорогие методы лечения были доступны как можно большему количеству детей. Хотя мы ясно отдаем себе отчет в том, что всей проблемы мы решить не в состоянии, но можем решить в очень большой степени.
Что для этого нужно? Давайте в порядке важности, значимости перечислим в нашем эфире те необходимые факторы, которые позволят и выявлять страшный диагноз на ранней стадии. Насколько я понимаю, очень важно выявить как можно раньше болезнь и успешно бороться со злом.
Алексей Масчан : Начнем с первой части Вашего вопроса. Можно ли выявлять детский рак в ранней стадии? Нет - нельзя. Практически все случаи детского рака изначально зарождаются, развиваются очень быстро и практически всегда выявляются в поздних стадиях. Это касается, наверное, 90% случаев детских опухолей. Поэтому речь идет прежде всего не о раннем выявлении, которое очень важно во взрослой онкологии, а об адекватном лечении, быстрой установке диагноза и лечении по современным протоколам, современными препаратами. Конечно же, обученным персоналом, конечно же, с использованием самой современной техники и лекарств.
Такая техника есть, лекарства есть, персонал есть?
Алексей Масчан : Персонал – это большая проблема. Мы подходим очень выборочно к рекрутированию наших врачей и сестер, потому что наши специалисты требуют очень высокого образования, очень высокой мотивации, честности, бескорыстия и очень многих качеств, которых, к сожалению, нам всем и в обществе, и врачам, в частности, не хватает.
Мотивацию как можно воспитать?
Алексей Масчан : Воспитать ее никак нельзя. Люди должны приходить в медицину с мотивацией лечить людей. И ни с чем другим. И вся эта трескотня об экономической целесообразности, о высоких зарплатах – это, конечно, не может быть поводом для того, чтобы пойти в медицину. Только мотивация. А к мотивации должно уже прилагаться много всего остального, потому что одной мотивацией, конечно, ничего не сделаешь. Должны быть способности, должно быть образование, должна быть мотивация к постоянному непрерывному каждодневному обучению.
И все же, в порядке важности и значимости – персонал, техника, деньги. Насколько важны деньги?
Алексей Масчан : Деньги, к сожалению, определяют все – ну, наверное, неправильно сказать, что определяют все. Если мне дать много денег, я на 2 метра 50 см. в высоту не прыгну, как бы я мотивирован не был. Но деньги лежат в основе и лекарственного обеспечения, и технического обеспечения. И, конечно, удерживания персонала – врачей и сестер.
Давайте к деньгам вернемся чуть позже, а пока хочу спросить – основная специализация вашего центра – это трансплантация костного мозга…
Алексей Масчан : Я бы сказал так – это та проблема, которая в наименьшей степени решена в нашей стране, поэтому мы на этом этапе нашего развития нацелены именно на трансплантацию костного мозга, или - в более широком смысле – гемо-поэтической ткани, то есть кроветворных клеток.
А с чем связано, что мы отстаем, я так понимаю, от других стран.
Алексей Масчан : Это смотря о каких странах говорить. Мы отстаем от Европы и Северной Америки, то есть тех стран, на которые мы по праву ориентируемся. Причина этого отставания очевидна – у нас в Советском Союзе была абсолютно закрытая система, врачи не знали как лечить, они не выезжали на международные конференции, не учились, не читали ни на одном языке. И был абсолютный застой вплоть до 1988 – 1989 года, когда мы впервые выехали, посмотрели, как можно лечить. И вот с тех пор мы начали развивать гематологию по-настоящему.
При том, что потребность в таких операциях была?
Алексей Масчан : Потребность постоянная. Она – более того – растет, потому что появляется все больше показаний к пересадке костного мозга. Оказывается, что с помощью пересадки можно лечить далеко не только опухолевые заболевания, но и многие, например, генетические синдромы, болезни обмена, врожденный иммунодефицит и многие другие заболевания. Это очень все интересно, но основной точкой приложения являются гематологические опухоли – лейкозы, в меньшей степени, лимфомы и некоторые другие виду опухолей у детей.
Сделать трансплантацию - дело не очень хитрое. Это то что мы называем "высокотехнологичное". Это то, чему можно обучиться и применять. Правда, обучение занимает очень много времени, чтобы качественно это делать. Но чтобы это применять, это должен быть конвейер. Центры, которые делают по 5 - 10 пересадок в год, они, к сожалению, редко, когда работают эффективно. Эффективность достигается только на "индустриальных мощностях", которые и созданы в нашем новом центре.
Но чтобы поставить на поток такие операции, наверное, нужен некий донорский банк.
Алексей Масчан : Здесь вы нашли не очень хорошего адресата для этого вопроса, потому что мое мнение расходится с мнением большинства коллег, которые считают, что там абсолютно необходим национальный банк доноров костного мозга. Я считаю, что если мы его создадим, то он решит лишь малую часть проблем. Во-первых, что такое создание такого банка? Наше российское население генетически очень разнообразно, мы это знаем. И для того, чтобы найти донора к каждому десятому, кто нуждается в доноре, нужно создать банк. А банк – это не физический банк, это банк виртуальных данных, о неких генетических характеристиках. Так вот нужно, чтобы этот банк был размером около ста тысяч человек – чтобы найти каждому десятому. Вложения в этот банк составят порядка 20 миллионов долларов только для того, чтобы найти донора каждого десятого. Для того чтобы найти 70-ти процентам, нужно создать 15-миллионный банк. Умножайте, получите размер вложений.
А теперь самое интересное. Допустим, мы можем найти донора для каждого из нуждающихся пациентов. Нуждается в год в пересадках около 3- 4 тысяч граждан России.
Реально же существует только два центра, которые делают эти самые неродственные пересадки. И общее количество пересадок может быть не более трехсот. Вопрос – зачем такой банк, если им никто не может воспользоваться? Не лучше ли эти деньги, если они запланированы, выделить на нормальное лечение больных в регионах.
Может быть, это страшно выглядит, но практически во взрослой гематологии – я сейчас не говорю о детской, в детской ситуация абсолютно другая – но во взрослой гематологии в очень малом количестве центров больных лечат на излечение. То есть с целью вылечить больного, а не поддержать его как-то на два-три месяца, и потом со спокойным сердцем проводить в последний путь. Вот в чем трагедия. Более того, нет желания и намерения вылечить этого пациента. А изначально больной лечится с намерением просто продлить ему жизнь. Скорее всего, очень не надолго.
Потому что не умеют?
Алексей Масчан : Много проблем. Во-первых, очень плохие больницы. Недостаток персонала, недостаток препаратов крови, которые необходимы для лечения сложных гематологических заболеваний. И, конечно, недостаток нормальных лекарств. То есть это глубинная инфраструктурная проблема, которая созданием банка доноров не решится. Но это немного другая проблема – гематологии в целом, а не трансплантации костного мозга.
А в случае, если требуется донора для пересадки костного мозга, его быстро можно найти?
Алексей Масчан : Если нам нужна пересадка под донора, мы генетически проверяем семью – братьев, сестер и родителей. Если среди них не оказывается донора, а это 80% пациентов, тогда мы запрашиваем международные банки. Это целая система, объединенная в единую базу данных, в которой содержатся данные о примерно 15-ти миллионах доноров, которые уже физически готовы сдавать костный мозг для любого человека на земном шаре. И эти банки расположены в Германии, а Англии, самый большой - в Северной Америки.
Они это делают на безвозмездной основе?
Алексей Масчан : Нет, они это делают на возмездной основе, но это некоммерческие траты. Я вам перечислил затраты, которые нужны на поддержания этих банков. Например, один анализ – генетическое типирование – это 500 долларов США. А нужно перебрать от восьми до двадцати потенциальных доноров и на каждого из них потратить 500 долларов. Плюс – организация забора костного мозга – а это госпитализация, общий наркоз. Плюс то, что мы называем логистическими тратами. И выходит это от 17 до 25 тысяч евро. Но банк с этого получает только то, что он тратит на свое самоподдержание.
Пересадка костного мозга относится к высокотехнологичной медицинской помощи – вы об этом сказали. Это означает, что тут работает система квотирования. В чем суть этой системы в России? Насколько она эффективна?
Алексей Масчан : Я вообще не знаю суть этой системы. Для меня – это чистый фашизм. Это, так скажем, выделение территориям – то есть регионам, некого количества квот – количества больных, которых они могут послать на тот или иной вид высокотехнологичного лечения. В частности, в нашем случае – на пересадку костного мозга. Вопрос: если в Брянской области есть, условно, три квоты на пересадку костного мозга. А нуждается в этом в Брянской области десять. Пересадка костного мозга – это не замена суставов, которую можно отложить, или еще какая-то операция, которую можно отсрочить. Это процедура, которая должна быть сделана в ближайшие два, три, четыре, пять месяцев максимум. Если у человека нет квоты, это значит – смерть. Значит, вывод таков – никаких квот не должно существовать, по идее. Все квоты должны идти на учреждение. Это значит, что я должен быть заполнен "под завязку". Могу я сделать 300 пересадок, значит, мне должно быть оплачено 300 пересадок. И я должен взять – кровь из носу – 300 пациентов из регионов. Вот как должны действовать квоты. А современные квоты – это ничто.
Можете себе представить, что квоты на лечение лейкоза у взрослого составляют 72 тысячи, хотя, по-моему, сейчас повысили 130 тысяч рублей. Что такое 130 тысяч рублей? Это, примерно, неделя пребывания в больнице и лечение современными химиопрепаратами и современными антибиотиками. Вопрос – что такое квоты? Это чистая профанация, как и большая часть того, что у нас делается в медицине.
А какова потребность в трансплантации костного мозга в нашей стране?
Алексей Масчан : Ее можно только экстраполировать, потому что точной статистики заболеваний у нас нет, регистра нет. Никто онкологические и гематологические заболевания правильно не считает, но мы можем экстраполировать и пользоваться данным из европейского регистра по пересадке костного мозга. Во Франции делается около 4-х с половиной тысяч пересадок. В Германии около 5-ти с половиной тысяч. Мы вместе составляем как раз Францию и Германию по населению. Получается, где-то около 10-ти тысяч.
Но эти траты - финансирование – должно на себя взять государство?
Алексей Масчан : В этом у меня нет никаких сомнений. Никто другой их взять не может.
А почему не берет?
Алексей Масчан : Оно считает, что берет.
Обрекая большинство на медленную или быструю смерть?
Алексей Масчан : Да. И когда я слышу, как мы замечательно и сколько мы денег тратим на здравоохранение – я видел депутатов, которые чуть ли не лопались от гордости, говоря о том, какое количество триллионов рублей они сейчас выделят на здравоохранение – надо понимать, что, может быть, их слово триллион и вводит в состояние транса и экстаза, но надо считать сколько нужно, а не сколько они выделяют.
Может быть, надо как-то иначе организовать финансирование нашего здравоохранения? Может быть, нам надо переходить на страховые принципы, о которых, в том числе, и депутаты говорят.
Алексей Масчан : Про депутатов я не буду говорить, потому что у меня будет мало положительных слов. Я думаю, они просто не представляют себе, о чем говорят. Какая может быть страховая медицина? Кто будет платить эту страховку? Из личных доходов граждан? Добровольное страхование? Тогда посмотрите на добровольное страхование в США. Кому доступна там медицинская помощь, особенно дорогая? В Европе, на которую мы должны ориентироваться, например, во Франции, которую я очень хорошо знаю, поскольку там учился, там все затраты на лечение онкологических пациентов берет на себя государство. Другое дело, там форма может быть – социальное страхование, какие-то выплаты по этим каналам, но это никак не личные средства пациентов, поскольку это невозможно. Современная онкология настолько дорога, что никаких личных средств пациента не хватит на лечение.
Кстати сказать, я бы хотел сделать - даже не реверанс, а действительно сказать, что наше государство очень много сделало для доступности именно дорогих лекарств. Есть программа, согласно которой самые дорогие лекарства стали доступны самым бедным людям, и вообще всем. Это вообще революция. Ее можно назвать "зурабовская революция" - Зурабова многие ругают, и по дело, но то что они сделали с этой системой дорогостоящих лекарств – это, конечно, достойно аплодисментов.
Полностью интервью слушайте в аудиофайле.
Мне сегодня сложно подсчитать уже, сколько лет я знаю двух замечательных докторов Алексея и Михаила Масчанов. Лет десять, наверное, как минимум. За эти годы я много раз общалась с родителями заболевших раком детей и уже привыкла к тому, что если говорят о любимом докторе-«волшебнике», то наверняка прозвучит именно эта фамилия. А имена могут быть разные. Но кто бы из братьев — безусловно ведущих детских онкологов России — ни комментировал события, связанные с проблемами здравоохранения, люди отмечали абсолютную компетентность и гражданское мужество экспертов.
Братья
 — С самого раннего детства я слышал от папы, что нет в этом мире профессии нужнее и благороднее, чем врач, — рассказывает заместитель директора Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, профессор, доктор медицинских наук Алексей Масчан. — Папа мечтал о медицине, и я думаю, он был бы самым лучшим врачом, но так сложилось, что он стал хорошим инженером-строителем. Мама тоже хороший инженер, только ее специальность — энергетика, но по структуре личности, потенциально, она — абсолютный гуманитарий. И вот сейчас, уже на восьмом десятке лет, она увлеклась скульптурой. Никогда этим прежде не занималась, но у нее удивительно хорошо получается. Я — первый врач в семье. А второй — мой брат, Миша. У нас с ним разница в возрасте — 13 лет. Мне в этом году исполнилось 52 года, ему нет еще и сорока.
— С самого раннего детства я слышал от папы, что нет в этом мире профессии нужнее и благороднее, чем врач, — рассказывает заместитель директора Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева, профессор, доктор медицинских наук Алексей Масчан. — Папа мечтал о медицине, и я думаю, он был бы самым лучшим врачом, но так сложилось, что он стал хорошим инженером-строителем. Мама тоже хороший инженер, только ее специальность — энергетика, но по структуре личности, потенциально, она — абсолютный гуманитарий. И вот сейчас, уже на восьмом десятке лет, она увлеклась скульптурой. Никогда этим прежде не занималась, но у нее удивительно хорошо получается. Я — первый врач в семье. А второй — мой брат, Миша. У нас с ним разница в возрасте — 13 лет. Мне в этом году исполнилось 52 года, ему нет еще и сорока.
— Наверное, вы довольно долго относились к нему как к малышу, не очень серьезно?
— Нет, я к нему всегда серьезно относился, и мы с ним всегда дружили, начиная с его двухлетнего возраста, когда он уже мог дружить. Позже к нам домой приходили мои друзья — студенты-медики, было весело, и он все время был с нами.
— Мне рассказывали, что в разгар перестройки, в 1989 году, группа ведущих детских гематологов и онкологов впервые в советской истории выехала на международный симпозиум в немецкий Веймар. И это было для них колоссальное профессиональное унижение. И что потом именно они осуществили настоящий прорыв в российском детском здравоохранении. Вы были в этой группе?
— Нет, в той группе я не был, в ней был мой патрон Александр Григорьевич Румянцев. А пришел я работать врачом в отделение гематологии в РДКБ примерно в это время, в 1987 году, — 27 лет назад. Это было мое первое место работы после ординатуры по педиатрии, то есть я никогда не занимался ничем другим. Отсюда уже ушел в наш новый, высокотехнологичный центр, о котором мы все так мечтали и для создания которого делали все, что могли. Тогда, примерно через год после начала моей работы в должности врача, открылся железный занавес. И мы «пошли по миру». Я попал в Америку, а потом на год стажировки во Францию. Вы говорите о профессиональном унижении… Да, контраст был такой, по сравнению с которым все бытовые отличия, которые потрясали советского человека, впервые попавшего за границу, были ничем. Понимаете, наши зарубежные коллеги обсуждали проблему, что делать с 30% детей с острым лимфобластным лейкозом, не поддающимся лечению. То есть 70% выздоравливающих уже на тот момент было не просто вполне достижимым международным результатом, а отправной точкой для дальнейшего прогресса. В СССР же именно к этому времени излечивали только 7%, то есть в 10 раз меньше. Мы увидели, что это — не вранье, а чистая правда! У нас же считалось, что если мы, советские врачи, не можем, значит, все остальные врут, что могут.
У нас открылись глаза: мы увидели различия во всем, и они не были в пользу нашей страны. В отношении к медицине, к технологии, к больному. В наличии лекарств. Хотелось, чтобы немедленно все изменилось и у нас. И мы стали совершенно неистово учиться, быстро, жадно… Я считаю, что больше всех повезло мне: я попал в госпиталь St. Louis в Париже — лучший на тот момент в Европе. Его «витриной» было отделение трансплантации костного мозга, в котором я учился и работал у профессора Элиан Глюкман, которая знаменита, например, тем, что первой в мире провела успешную пересадку пуповинной крови.
Мы все понимали, уже вернувшись, что теряем больных из-за совершенно тупиковой психологии ежедневного изобретения «национального велосипеда». Должно быть четкое следование протоколам лечения, а не поиск чудесных схем для каждого отдельного пациента. Тогда за 3-4 года нам удалось повысить вероятность выздоровления, причем не только в лучших московских клиниках, но и во многих региональных, буквально в 10 раз. На территории России фактически заработал унифицированный стандарт лечения детских лейкозов — это правда был прорыв в детском здравоохранении страны.
Дальше уже все идет гораздо медленнее и с гораздо большими трудами. То, что сегодня мы со всеми своими самыми предельными стараниями вылечиваем 85 и даже 90% больных с острыми лейкозами, — это пока максимум. Хотя сегодня уже я, наверное, профессионально на две головы выше того себя, который 20 с чем-то лет назад только вернулся из Франции.
— Как с братом складывались уже профессиональные отношения?
— Когда я уехал на зарубежную стажировку, он как раз поступал во Второй медицинский институт. Начиная с первого курса ходил к нам в клинику. Сначала он, можно сказать, учился у меня. А сейчас я потихонечку, так, чтобы никто не замечал, учусь у него, потому что он теперь много уже знает такого, чего я не успеваю узнавать. И мне это очень приятно, потому что в качестве его знаний я не сомневаюсь. У нас общее дело, он руководит отделом трансплантации костного мозга, а я этот отдел курирую как заместитель директора центра.
Как у любого, кто начинает заниматься медициной, у меня было первое желание — найти лекарство от смерти, второе — от рака…
Обратная селекция
— У вас много времени занимает администрирование? Как строится ваш день?
— Я не совсем ушел в администрирование, мои коллеги, к огромному моему счастью, дают мне возможность заниматься клинической работой, я без нее просто не существую. Меня зовут как консультанта, когда нужно принимать ответственные, критические решения. Кроме того, я заведую отделением гематологии и отвечаю за каждого больного, а это — 30 детей. Но, конечно, того круглосуточного ежесекундного режима готовности, в котором я жил многие годы, уже нет. Ситуация теперь более плановая — рядом со мной много замечательных, талантливых врачей.
В каждом моем дне огромное количество разных дел. Помимо клинической работы я пишу статьи и редактирую медицинские журналы, отрабатываю с научными группами протоколы лечения. Благодаря нашему центру мы теперь можем концентрировать большое количество пациентов с редкими однотипными тяжелыми заболеваниями. Проводим лечение, анализируем результаты, генерируем новые данные на два порядка быстрее, чем мы могли это делать раньше.
Мы ведем сейчас ряд исследований в области гематологии и трансплантации костного мозга, которые представляют большой интерес для всего мира. Но, поскольку такая работа стала возможной только благодаря оснащенности центра, которому всего 3 года, пока рано говорить о результатах. Через год мы уже начнем широко их публиковать. Пока же я могу сказать только о том, что через каждые 5—10 лет оказывается, что мы теперь знаем в сто раз больше. Дело врача — лечить пациента до последнего шанса. Лечить максимально хорошо, и для этого учиться и переучиваться всю жизнь. И знать все то новое, что появляется в мире в области твоей специальности. Вот вы, когда входили ко мне, столкнулись с молодым человеком и его папой. Молодому человеку — 25 лет. Двадцать из них — он наш пациент. Все эти годы его лечили, не понимая диагноза. И только совсем недавно в мире были открыты новые гены, изменения которых могут иметь сходную картину с теми изменениями в организме, от которых он страдает. Через 20 лет после того, как я впервые увидел его больным малышом, мы смогли поставить правильный диагноз.
— Это онкология?
— Нет, у него недостаточно развит один из ростков костного мозга, и из-за этого бесконечные кожные и носовые кровотечения. Сегодня мы уже знаем, как это лечить…
— В ваш центр сложно попасть больным детям. Скажите, по какому принципу вы берете их на лечение?
— Мы работаем больше, чем на 100% нашей мощности, каждый день, и все равно вынуждены отказывать очень многим. Я понимаю родителей, которые стремятся попасть к нам, у нас действительно отличные условия. В центре, если брать коечный стационар вместе со стационаром одного дня, постоянно минимум 400 больных детей. Мы берем прежде всего самых тяжелых, у кого заведомо худший прогноз, если они будут лечиться в своем регионе. И, во-вторых, берем детей из тех регионов, где службы гематологии и онкологии нет вообще или она развита плохо. То есть мы выбираем тех пациентов, которым вряд ли кто-то поможет, кроме нас, такая вот обратная селекция. Мы — для тех, кто больше всех в этом нуждается.
— А показатели у вас тем не менее лучшие?
— Нет, конечно! В любой клинике, которая занимается самыми трудными больными, смертность будет выше, чем в обычных. Риск смертельных осложнений гораздо выше при тяжелых методах лечения, особенно при проведении пересадки костного мозга или каких-то экспериментальных методов лечения у ранее безнадежных больных.
И когда я слышу разговор о том, что у нас есть онкологическая клиника, в которой смертность нулевая, я сразу говорю: это результат подбора пациентов. Точка.
Боль
— Вы видите лица родителей, страдания и смерть детей. Как вы с этим справляетесь, что делаете для того, чтобы не впадать в депрессию?
— Моя психологическая защита в том, что я никогда не верю в то, что ребенок умрет. То есть умозрительно я всякий раз понимаю, что случилось по-настоящему самое страшное. Но эмоционально — не верю. Для меня это складывается так. Когда ты сделал все, что мог, и даже больше, нужно очень стараться сбросить с себя эту ношу, чтобы продолжать лечить других больных детей. Это нелегко, но можно. Труднее, когда ты сделал что-то не так. У меня был такой случай много лет назад.
Это была маленькая очаровательная девочка, она не могла быть вылечена на тот момент: у нее была терминальная стадия лейкоза. Мы ей должны были сделать пункцию, а тогда не было нормальных игл — пунктировали иглами, какие были под рукой. После этой пункции она погибла от кровотечения, что бывает крайне редко. Это было самое мучительное, самое тяжелое событие. Когда к тебе приводят ребенка, и он идет своими ножками, ты разговариваешь с ним, делаешь ему пункцию, и буквально через несколько минут начинается кровотечение, а через час ребенок умирает, — это врачу пережить почти невозможно.
Мы пришли к родителям и сказали все как есть: это — наша вина. Самое поразительное было в том, что они отнеслись к нам с сопереживанием. Было общее горе. Я по сей день им за это благодарен. Не за то, что они не написали жалобу. Но они почувствовали, как для меня и для моих коллег это тяжело и мучительно.
Зло
— Что для вас самое большое, абсолютное зло сегодня?
— То, что вдруг 86 процентам наших сограждан показалось, что какие-то военно-бандитские победы, добытые на известных фронтах, должны непременно реализоваться и в интеллектуальном подъеме, и в победе во всех других областях. Я-то уверен, что все будет происходить с точностью до наоборот, — взрыв псевдопатриотизма, который мы наблюдаем и от которого тошнит, приведет к пагубным явлениям и в науке, и в медицине. И это коснется каждого.
Уже существует законопроект о том, что если в государственных медицинских учреждениях есть два предложения отечественных препаратов, то предложения импортных даже не будут рассматриваться. Это — рафинированная подлость по отношению к пациентам и врачам, которые будут вынуждены лечить абсолютно не проверенными лекарствами. Единственное основание для их применения в том, что они произведены в России. Притом что даже это основание — липовое: их изготовили в Индии, в Китае или в Латинской Америке, а в России только переупаковали. Даже не сделав очистку. Законопроект предполагает жесткую директиву для государственных медицинских учреждений, а именно в них лечится подавляющее большинство населения страны. Например, российская компания «Верофарм» предлагает свой препарат под названием «Аспарагиназа» для лечения лимфобластных лейкозов. Зарубежный аналог, который, конечно же, дороже, и у детей, и у взрослых является ключевым, базовым в терапии. Это — белковый препарат, который нарабатывается в бактериальных культурах. Соответственно, российский продукт не попадает ни под какие законы о дженериках, он, как биоаналог, должен подвергаться клиническим испытаниям для выявления эффективности, токсичности, с долгосрочной оценкой выживаемости, и так далее. Но этот препарат, не пройдя таких испытаний, зарегистрирован! Даже в Москве представители «Верофарма» ходили по больницам — братки такие, которые пугали врачей, гнули пальцы и намекали на неприятности, если по поводу их препаратов будет сказано что-то не то.
— А как их в больницу пустили, этих братков? И что происходит с больными, если они принимают этот препарат?
— Ну пускают как представителей фарм-компании, а что происходит с больными, я не знаю. Нужны исследования, доказательства. Может быть, они произвели замечательное лекарство, вопрос-то в том, что это не может приниматься на веру. И я не обязан рисковать здоровьем тяжелобольных детей. Процесс лечения лейкозов включает в себя много этапов, он основан на многих препаратах — от семи до десяти. И выпадение эффективности одного препарата может сказаться далеко не сразу, может, через года два-три, а бывает, что и через 7 лет, и это выразится в рецидиве рака. Существуют способы доказательства, есть для таких исследований лабораторно-экспериментальные базы, но российские компании идут напролом. Конечно же, деньги большие, а главное — легкие, они же на самом деле ничего не производят. И таких компаний все больше. Я думаю, они скоро начнут убивать друг друга.
У нашего центра есть возможность отпугнуть недобросовестных людей. А во многих регионах эти препараты вынуждены покупать.
— Паленые лекарства — это звучит страшно. Что с этим делать?
— Пока законодатели думают об отечественном производителе, а не об отечественном пациенте, невозможно что-то сделать. У них ширма патриотизма, а я считаю, что патриотизм в том, чтобы лечить наших больных самыми лучшими лекарствами, которые только есть в мире.
Мозг влюбленного
— А как можно сформулировать проблему № 1 для российского здравоохранения?
— Это отсутствие всеобъемлющей единой системы, когда ведут больного от и до. Здесь не может быть лоскутных решений. Пациент, как только он заболел, должен быть взят под контроль полностью: с лечением заболевания, осложнений, с медицинской и социальной реабилитацией… Вплоть до того момента, когда его можно будет отпустить в жизнь без сопровождения. Такая система есть во многих странах, но, если вы здесь об этом заговорите, вам будут это все заменять суррогатами типа «этапность, преемственность»…
Вторая проблема — то, что медицину стали рассматривать как область финансового дохода. Это философия мясника, медицина должна помогать людям, а не зарабатывать, она должна оставаться доступной и качественной. В нашем центре мы говорим врачам при приеме на работу: в случае взятия денег у пациента — все, пошел… работать в другое место.
Это совершенно нормальный климат, когда врач не думает о том, сколько денег ему принесет человек страдающий. Это позволяет жить с чистой душой и лечить всех одинаково, а мы, руководство, стараемся, чтобы наши врачи не нуждались. Конечно, если назвать сумму наших зарплат успешному частному московскому доктору, он расхохочется. Но по сравнению с нашими коллегами в других городах те 50—70 тысяч рублей, которые получают наши врачи, — большие деньги, которые позволяют им жить не бедствуя…
— Ситуация с онкологической болью, как я понимаю, постепенно решается. После выстрела адмирала Апанасенко в этой области происходят какие-то серьезные сдвиги?
— Эта проблема никогда не будет решена теми методами, которыми она решается сейчас. У нас в России потребление морфина в 100 раз меньше, чем необходимо больным. У меня рецепт простой: запретить Федеральной службе контроля за наркотиками заниматься обезболивающими препаратами. Вывести медицинские наркотики из-под их контроля. Просто выгнать их из медицины напрочь, это решит главную проблему. Им известно все о наркобизнесе, в котором нелегальный оборот медицинских наркотиков составляет сотые доли процента. Но им легче отчитываться уголовными делами против, например, замечательного врача из Красноярска Алевтины Хориняк, которая, как настоящий врач, не смогла оставить без обезболивания человека. Легко преследовать ветеринара, который не может делать операцию без обезболивания собаке, потому что он не живодер…
Человек, да и животные ни в коем случае никакой боли терпеть не должны, ни за что, никогда. Боль терпеть не надо, пожалуйста, запомните это! Если вам врач говорит про лечебные свойства боли — он не профессионал, он живодер, я с таким даже здороваться бы не стал.
— Что вас радует?
— Главная радость моей жизни — моя огромная семья, мои родители, моя жена, мои поздние дети, два сына, одному 11 лет, другому — год и 9 месяцев. Я совершенно счастливый папа. Счастлив, что я являюсь частью команды, которая бьется с самыми страшными болезнями. Радует, что рядом очень много людей, которые хотят помогать детям. Два моих любимых школьных друга, известные люди в мире бизнеса, уже много лет дают деньги для пациентов и врачей. То же самое делают и мои живущие в Германии родственники. Есть люди, которые просто пришли к нам и большие личные деньги пожертвовали на наши проекты.
Я со всеми бывшими пациентами с большим удовольствием, с радостью встречаюсь. Хотя, конечно, мечта детского онколога — сделать так, чтобы пациент о нем забыл. Но я очень рад, когда они все-таки показываются, шлют фото со своей свадьбы, своих новорожденных детей.
— Я читала статью невролога, в которой говорилось, что мозг влюбленного светится, как новогодняя елка. Мне кажется, сейчас ваш мозг светится…
— Может быть, не знаю, я не могу этого видеть. Но, по ощущениям, это вполне возможно.
Работа федеральных медицинских центров - под угрозой. Сейчас лечение в них финансируется напрямую из Минздрава. Однако с января средства будут выделяться через Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Тарифы страховщиков на лечение онкологических заболеваний, например, в десятки раз меньше реальных затрат. Это означает, что медучреждения неминуемо столкнутся с дефицитом лекарств. О том, как госполитика в области здравоохранения отражается на пациентах, «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Федерального научно-клинического Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, онколог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Масчан.
«Лента.ру»: В вашем центре регулярно бывает президент Владимир Путин. Неужели у клиники, к которой приковано такое внимание, могут быть финансовые проблемы?
: Как все федеральные научные центры, мы до сих пор финансировались напрямую из Минздрава за счет квот на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП). С нового года квоты отменят и все будет проходить через фонд ОМС. И мы теперь находимся в тревожном ожидании.
В правилах ФОМС указано, что оплачиваются лишь законченные случаи. А что это такое? Есть стандарты. Например, лечение детей со злокачественными опухолями костей и мягких тканей предусматривает операцию и курсы химиотерапии. Хирургическое вмешательство требуется не всем больным. Но если операции не было, случай считается незаконченным.
За него не заплатят?
Заплатят, но не всю предусмотренную сумму. Мы написали в ФОМС о том, что это в корне неверно. Нам ответили, что инструкция есть инструкция. Раз должны оперировать, то делайте, как написано в российских стандартах, и не имеет значения, что мы в лечении руководствуемся международными протоколами. Кроме моментов, касающихся лечения, немало вопросов и по формированию тарифов. Законченный случай с операцией оценивается в 120 тысяч рублей. Этого, мягко говоря, недостаточно. Потому что только стоимость препаратов в день для больного может составить 100 тысяч рублей. На лечение детской онкологии по ОМС выделяется меньше средств, чем на проведение того же ЭКО.
Минздрав по квотам давал больше денег?
Квоты на высокотехнологичную помощь не предполагали жестких границ, как в случае ФОМС. Давался определенный бюджет. И мы в его рамках могли действовать свободно. Допустим, выделили средства по квоте для 10 человек. Кто-то прошел без осложнений, на их лечение затратили меньше средств. А кому-то потребовалась дополнительная помощь. Сейчас так лавировать уже не получится.
Фото: из личного архива Алексея Масчана
Получается, что в других больницах соблюдают спущенные сверху инструкции и, условно говоря, оперируют, хотя больному это может повредить?
Когда ребенку не показана операция, варианта у больницы три: врать и писать, что они что-то провели; нормально не лечить; обращаться к благотворителям. То есть государство заведомо создает невыполнимые правила игры для тех, кто хочет качественно помогать больным. Вы знаете о том, что у нас большая разница в стоимости лечения онкологии между регионами? Она значительна даже в соседних областях. Чем отличается житель условной Тюмени и Красноярского края от того же жителя Иваново?
Наверное, тем же, чем богатые семьи отличаются от нищих.
Вопрос в том, кто сделал эти регионы бедными или богатыми. Недра Красноярского края кому принадлежат - региону или всей стране? Экономисты и властители дум, за которыми мы шли в 90-е годы, на самом деле как были торговцами цветами в душе, так ими и остались. Только теперь они не сотнями рублей ворочают, а миллиардами. А нравственный уровень - абсолютно как у фарцовщиков.
В стране уже второй год активно проходит программа импортозамещения лекарств и медтехники. На вас это как-то сказывается?
Мы всегда пользовались хорошими западными реагентами для анализов донорской крови. Когда начались разговоры про отечественных производителей, экономию, решили попробовать дешевые российские. Год тестировали. Сэкономили за счет этого два миллиона рублей. Однако был получен высокий процент ложнопозитивных результатов, что привело к необходимости отказываться от доноров и перепроверять всех остальных на иностранных препаратах. Потратили 2,5 миллиона рублей. То есть на 500 тысяч больше, чем составила «экономия».
Как будете обходить правило, которое обязывает госучреждения при закупках выбирать продукцию российских производителей?
Пока не знаем. У нас была возможность в критических ситуациях прибегать к помощи благотворителей. С нами работает фонд «Подари жизнь». Но благотворителям сейчас очень трудно. Если не говорить о четырех-пяти самых крупных фондах в стране, для остальных каждый собранный миллион пожертвований - большой успех. Законы о госзакупках, где определенным компаниям даются неоправданные преимущества, рушат рынок. Зачем российским производителям бороться за качество, зачем снижать цены, зачем с кем-то конкурировать, если у них и так обязаны все купить? А с закупками отечественных материалов бывает до смешного. У нас в июне в День защиты детей был президент Владимир Путин. Но перед его визитом приехали сотрудники федеральной службы охраны. Мы на них надели белые халаты от отечественных производителей. Халаты у них в плечах треснули.

Плохая ткань или большие сотрудники?
Расползается ткань. И к тому же «импортозамещенные» халаты жутко колючие. Или взять, например, бахилы. Казалось - чего уж проще. Это ведь не томограф и не аппарат УЗИ. Обычный целлофановый мешок. Купили российские. Надеваются с третьего раза. Потому что первые два «носка» рвутся. Вот такое качество.
Центр Димы Рогачева - лучшая детская онкологическая клиника в стране. Значит, по определению тут должны лечиться или хотя бы консультироваться родственники высокопоставленных чиновников. Они тоже используют все отечественное?
Мы всех лечим одинаково. У нас пока есть возможность предоставить всем качественное лечение, соответствующее международным протоколам. Это опять же заслуга благотворителей. Но вы правы. Когда заболевает кто-то из «великих», звонят: «А что нам делать? Посоветуйте кого-то за границей, чтобы мы могли купить самое лучшее лекарство, не подделку».
В прошлом году детские онкологи написали открытое письмо в Минздрав с требованием запретить лечить рак у детей дженериками. А недавно министр здравоохранения Вероника Скворцова призвала всех доверять отечественным производителям. Вы доверяете?
Знаю два-три крупных отечественных производителя, в отношении которых я изменил точку зрения. Я специально ездил на производство, встречался с руководством. Они, заработав деньги на госзаказе, уже перешли от изготовления дженериков к наукоемким лекарствам. И это уже выходит за рамки простой наживы, в чем я их раньше подозревал. Однако, кроме этих компаний, есть такие, за которых гроша ломаного никто не даст.
Уже стало традицией, что онкологи ежегодно устраивают международные встречи и рассказывают свои новости. В детской онкологии есть прорывы?
Революционных прорывов нет. Детская онкология уже достигла невиданных результатов. Например, если у взрослых выживаемость при лейкозах составляет 30-40 процентов, у детей - 70-90 процентов. Мы бы хотели, чтобы все дети выздоравливали. Мы мечтаем и о том, чтобы сделать процесс лечения менее болезненным и травматичным. Но сегодня врачи, убивая детский рак, осознанно рискуют, что лет через 20-40 у бывших пациентов могут возникнуть осложнения.

Фото: Andrey Pronin / Globallookpress.com
Например, одно из самых излечимых онкологических заболеваний - лимфома Ходжкина. В программу лечения, помимо химиотерапии, входит облучение грудной клетки. Оказывается, что у болевших девочек в дальнейшем риск развития рака молочной железы увеличен в 40 раз. Старые детские гематологи-онкологи говорят, что теперь никогда они не будут говорить о пациентах, что они выздоровели. Будут говорить, что выжили. Согласитесь, выздоровление и выживание - немного разные вещи. Поэтому поиски путей наименее травматичного лечения - это не менее важная для нас задача.
Минздрав в этом году отказался включать в список жизненно важных лекарств (ЖНВЛП), которые могут закупаться для государственных клиник, новые препараты. Если в вашей сфере «нет прорывов», значит вас это не затронет?
Мы уже несколько лет бьемся над тем, чтобы в список ЖНВЛП попали препараты, которые могли бы увеличить прогноз больных иммунной тромбоцитопенией. На нашем рынке эти лекарства обращаются уже семь лет. Пациентов, которым они требуются, всего 60-70 на всю Россию. Но это заболевание очень коварно. Одно из осложнений - постоянная угроза кровоизлияния в головной мозг.
Лекарства дорогие?
Стоимость зависит от веса пациента - от 160 до 320 тысяч рублей в месяц. Сейчас мы вынуждены лечить детей токсичными «старыми» дешевыми препаратами, но если подсчитать суммарные затраты на лечение, а именно на госпитализацию и лечение осложнений заболевания, то оказывается, что инновационные препараты в итоге дешевле. Не говоря уже о том, что качество жизни при их применении несравненно выше.
В этом году не только ни один из по-настоящему прорывных препаратов не вошел в список жизненно необходимых, он вообще не был расширен. А это значит, что государственные больницы не смогут их закупать. Зато в списке всякая чушь, наподобие настойки боярышника. Или лекарства, эффективность которых никто не исследовал. Те же арбидол или амиксин. Я ради интереса смотрел публикации в зарубежных журналах по этим препаратам. Их нет! А качество клинических данных, опубликованных в России, настолько безобразно, что даже обсуждать там нечего.
В то же время действительно жизнеспасающие препараты, направленные, например, на лечение РМЖ, меланомы, для поддержки пациентов после трансплантации почек, для пациентов с диабетом добавлены не были, хотя предварительное положительное решение комиссии по ним было получено. При этом важно отметить, что механизм включения препаратов в список ЖНВЛП - это возможность для государства зафиксировать цены производителей на нижней границе диапазона, что существенно экономит бюджетные средства.

Если исключить «фуфломицины» - хватило бы сэкономленных средств на жизнеспасающие лекарства?
Полностью, думаю, нет. Но можно было бы существенно сэкономить. Мы тратим в десятки раз меньше, чем развитые страны на здравоохранение и на лекарственное обеспечение. Ссылки на то, что бюджет надо экономить, - в пользу глупых. Превратив человека в инвалида, впоследствии государство потратит гораздо больше денег на его содержание.
Сейчас все обсуждают ситуацию с онкологической клиникой №62 в Москве. Вернее, анализ ее закупок. Препараты, которые больница самостоятельно закупала, оказались в десять раз дешевле, чем те же самые, но купленные централизованно, городом. В регионах так же?
Такой масштабной разницы в ценах я нигде не встречал. В России все происходит с точностью до наоборот. История с этой больницей - просто классика. Первоначально декларируется, что централизация, оптимизация - меры в целях снижения затрат. В результате издержки повышаются в разы. А из самой больницы, которая лучшая в стране, выгоняют главного врача. А ведь он заслуживает звания Героя России куда больше, чем некоторые, уже получившие эту награду.
Сегодня врачи на профессиональных интернет-форумах часто обсуждают вопрос, сообщать ли пациенту о новых методах лечения, если они не входят в программу госгарантий. Получив такую информацию, больные пишут в Минздрав, жалуются, а начальство в результате наказывает доктора, который «проболтался».
Вопрос как у Сергея Довлатова: «Стоит или не стоит в гостях красть серебряные ложки». Пусть те врачи, которые считают, что пациенту не нужно знать лишнего, сами когда-нибудь окажутся в роли больных и им также кто-то не скажет о современных возможностях лечения. У нас что - врачи какая-то высшая каста по сравнению с другими людьми? Почему они должны решать, что пациенту знать, а что нет? Конечно, надо говорить. Тем более что люди становятся все более и более читающими, интернет открыт для всех. Такие дискуссии в медицинском сообществе - настоящее скудоумие. Это остатки тоталитарного сознания. Тоталитарного в том смысле, что кто-то может решить за человека, что ему надо знать, а что нет.
Почему ваши коллеги из других больниц молчат о проблемах в здравоохранении?
Если в регионе врач рот открыл, его выгонят, и работы он потом не найдет.
Почему-то вспомнилась фраза Зои Космодемьянской.
Которая сказала: «Всех не перевешают»? Достаточно повесить одного. Это законы управляемого общества.