Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?
Психические недуги создают массу проблем для больного и его близких, поэтому важно, насколько верен диагноз «шизофрения», как ставится и есть ли возможность снять удручающую надпись в медкарте.
Верные методы диагностирования психических заболеваний являются залогом успешного лечения. Профессиональное отношение к недугу предусматривает длительное наблюдение за пациентом — не менее 6 месяцев в условиях стационара психиатрического заведения. Болезнь серьезная, без надлежащего лечения приводит к необратимым процессам. Более того, человек, страдающий психическими расстройствами, в момент обострения может стать опасным и для себя и окружающих. Но нельзя сразу ставить крест на страдающем человеке. Нередко врачи ошибаются и это понятно — симптомы банального нервного расстройств могут ввести в заблуждение даже опытного специалиста. Поэтому важно продолжить обследование, не читать мифы о невозможности излечиться и тщательно следовать рекомендациям доктора.
Случай может быть определен как дискретный объект нозографического набора, но его также можно определить в терминах психопатологического «количества» или степени связанного с ним психологического недостатка. В одном из самых известных исследований. Проведенного в Соединенных Штатах, в Манхэттенском исследовании в центре Манхэттена, нозологический подход был решительно исключен, в частности, было рекомендовано использовать вопросники для борьбы с медицинской моделью психических расстройств; Принцип континуума от психического здоровья до психического заболевания, от благополучия до психологического дискомфорта был центральным в этом подходе.
Важно: при правильном подходе, со временем станет насущным вопрос — «Как снять диагноз «шизофрения» и о недуге можно с успехом забыть, начать жить нормальной жизнью.
Диагноз «шизофрения» может быть поставлен только квалифицированным врачом
Выявить первые признаки, то есть манифестацию заболевания не так легко. Обычно симптомы кроются за привычными для многих ощущениями: депрессией, раздражительностью после стресса. Также большинство ошибочно полагает, что такие состояния, как страх, мания преследования и другие являются признаком перенесенных заболеваний, травм, конфликтов. Поэтому к врачам обращаются упустив первый момент. Но специалисты утверждают одно: даже если сомневаетесь в том, что это не проявление шизофрении, все равно следует обратиться в клинику.
Отсутствие правила для установления порога, из которого следует рассматривать «отклонение» так как индекс определенного расстройства или потребность в специализированной помощи исключили масштабы этого исследования, согласно которым симптомы были обнаружены у 81, 5% испытуемых, 23, 4% людей в выборке «Факторы», выявленные статистическим анализом информации, собранной с помощью шкал, были столь же ненадежны, как и те категории диагностики, которые, по их утверждению, заменяли.
С тех пор был достигнут серьезный прогресс. Во-первых, было широко признано, что более точное определение случаев было желательным и возможным. По мере роста консенсуса выявленные симптомы были описаны с большей строгостью, а также с правилами их расположения в синдромах. Некоторые старые диагностические категории, происхождение которых было связано с непроверенными этиологическими предпосылками, постепенно прекращались, и нозографии превратились в более точное описание расстройств.
Диагноз шизофрения: кто ставит
Существуют разные методы определения психического заболевания, и занимаются пациентами такого типа только лица с высшим медицинским образованием по специализации «психиатрия». У врача должен быть сертификат, аттестат. Чтобы найти опытного доктора, нужно узнать о его деятельности по отзывам от бывших пациентов. В идеале, у хорошего врача есть свой официальный сайт, где отражена вся информация о его работе, методах диагностирования, способах лечения. Важной компонентой является наличие работы в известных клиниках, причем не только в отечественных, но и зарубежных.
В Соединенных Штатах необходимость усиления согласия между психиатрами привела к установлению точных диагностических критериев, которые в конечном итоге привели к последнему пересмотру американской классификации. Отличительной особенностью этой классификации является определение каждого диагноза в соответствии с четкими критериями включения и исключения. Этот прогресс в нозографиях шел рука об руку с лучшим определением «случаев» в эпидемиологических исследованиях.
Оппозиция, уже вызванная между категориальным подходом и мерным подходом, как правило, устарела, и несколько авторов предложили оригинальные решения, которые включают. Однако определение порога остается произвольным, и оно несколько круговое, чтобы установить справедливость инструмента, использующего сам критерий неточно.
Важно: уважающий себя специалист всегда придерживается политики конфиденциальности.
При посещении, доктор проводит визуальный осмотр. Второй этап — общение с пациентом. Таким образом, обращая внимание на речь больного, его поведение, способность отвечать на те, или иные специфические вопросы, рассуждать, строить предложения, врач делает определенные выводы. Затем в обязательном порядке требуется беседа с близкими больного человека, которым нужно детально рассказать о том, как он себя ведет, какие симптомы настораживают и проявляются. Также необходимо выявить есть ли еще члены семьи, у которых наблюдается неадекватное поведение, странности, нарушение речи и т.д.
После этих целей очевидно, что только образование однородных групп, объединяя случаи известного определения, может привести к открытию законов, лежащих в основе изучаемых явлений. В заключение, более точные определения «случаев» стали доступны для использования в эпидемиологических исследованиях. Это является предварительным условием для установления любой процедуры определения предметов в опросах.
Методы идентификации случая
Как только определение случая было задано, проблема заключается в том, как его измерять или идентифицировать. Существует много оснований полагать, что традиционное клиническое суждение ненадежно и в медицине, и в психиатрии. Несколько исследований показали, что достоверность психиатрических диагнозов, когда несколько клиницистов, как бы они ни были обучены, и аналогичные школы, должны давать диагноз на идентичный клинический материал, были далеко не удовлетворительными, за исключением психических расстройств органического происхождения, алкоголизм и умственная отсталость.
Как поставить диагноз «шизофрения»
Некоторые ошибочно полагают, что психические расстройства можно определить, если консультироваться с доктором по скайпу или заочно. Для точной диагностики и выявления всех признаков болезни необходима очная консультация. К основным симптомам относятся:
- неадекватность в поведении;
- обеднение речи, бессвязность, потеря логики;
- торможение при мышлении, неспособность четко выражать свои мысли;
- потеря логики в рассуждениях;
- чувство страха, мания преследования, величия;
- аутизм — замыкание в собственном ограниченном мире.
Если хотя бы два из перечисленных признаков есть в наличии, и они наблюдаются более 2-х месяцев, поход к психиатру обязателен. В список обязательных методик диагностирования входит тест, выявляющий психические отклонения.
Даже для психозов, согласование между судьями было ограничено, в то время как это стало явно плохим для неврозов и расстройств личности. В Австралии исследование показало, что с трехмесячным интервалом только 70% Дети-психиатры несут такой же диагноз, если им представлена строго идентичная клиническая этикетка.
В процессе психиатрической диагностики выявлено несколько источников разницы. Один из них связан с пациентом, который может иметь разные психопатологические условия во время своей истории. Другим является момент, когда ему дается исследование субъекта, клиническое состояние которого в фиксированном состоянии изменяется со временем. Средства, используемые для получения информации, варьируются от одного врача к другому. Точность наблюдения зависит от клиницистов, которые не реагируют одинаково на один и тот же стимул.

Диагностика шизофрении предполагает прохождение специального теста
Вопросы теста
- Читает ли пациент чужие мысли, выражает ли свои вслух.
- Уверен, что мысли навязаны извне.
- Кто-то управляет чувствами и движениями.
- Возникают бредовые идеи, галлюцинации, считающиеся невероятными с точки зрения здравого смысла. То есть пациент может быть уверен в своей исключительности, считать, что обладает особыми способностями.
- Несвязная речь, разорванность мыслей, неологизмы.
- Кататонические припадки: отказ пациента от общения, выполнения задач, нежелание отвечать на вопросы, застывание в определенной, странной позе или полное торможение — ступор.
- Нарушение поведения: отсутствие каких-либо интересов, желания заниматься любимым делом, отказ от поставленных целей, замыкание от общества.
- Потеря эмоций, полное равнодушие к реальности, отсутствие социальных контактов.
Дополнительные методы диагностики
Психические отклонения, благо, не частое заболевание. Очень часто обыватели путают банальную депрессию, перенесенный стресс, усталость, подростковый период с шизофренией. Именно по этой причине существует дифференцированный метод определения заболевания, при котором исключают все перечисленные симптомы, а также экзогенные признаки, связанные с потреблением алкоголя, наркотиков, болезнями мозга, отравлениями. При диагностировании, в обязательном порядке исследуются анализы крови, мочи на выявление патологий, влияющих на психику больного.
Наконец, обработка информации, то есть интерпретация собранных знаков и расположение симптомов, приводящих к диагностическому составу, зависит от используемых правил и личных критериев экзаменатора. Изменчивость, главным образом из-за последних двух упомянутых точек, может быть заимствована двумя взаимодополняющими путями.
Первая из них заключалась в разработке более или менее структурированных методов технического обслуживания, которые гарантируют, что все соответствующие признаки систематически запрашиваются экзаменатором, чей способ проведения интервью становится стандартизованным. В этих процедурах использование кодирования ряда хорошо определенных элементов уменьшает изменчивость из-за личной интерпретации конкретного технического термина. Из методов структурированного обслуживания или полуструктуры наиболее часто используются настоящее государственное экзамен, график аффективных расстройств и шизофрении и график диагноза.
Важно: после лечения, как правило, происходит снятие диагноза «шизофрения» и пациент возвращается к нормальному образу жизни. В последующем, потребуется периодическое посещение врача на определение рецидивов или установки стойкой ремиссии.
Диагноз «шизофрения»: как снять
Точно установленный диагноз психического расстройства требует мощного воздействия различными методами. Современная психиатрия обладает рядом отличных нейролептиков, ноотропиков, благодаря которым есть конкретный ответ на наболевший вопрос — «Можно ли снять диагноз?» — да, можно. К эффективным относятся следующие наименования лекарственных средств
Одно из различий между этими методами заключается в том, что они относятся к разным нозографиям. Во-вторых, было установлено множество правил и критериев, которые регулируют расположение симптомов в синдромах и диагнозах, а также использование явных критериев для обеспечения того, чтобы определение понималось одинаково всеми пользователями и что достигнут консенсус по всем правилам принятия решений, которые приводят к установлению диагноза.
Правильно ли этот диагноз относится к данному предмету, независимо от того, согласны ли они с действительностью этого определения. Наконец, проблемы измерения были в центре событий, упомянутых выше. Для эпидемиологических исследований остаются разные способы сбора данных. В некоторых исследованиях подготовленные клиницисты собирают данные. Вопросники, которыми управляют специализированные исследователи или нет, или шкалы самооценки - другие широко используемые методы. Рассмотрение стоимости, маневренности, чувствительности и специфичности используемых инструментов направляет выбор процедуры.
- кветиапин;
- феназепам;
- циклодол;
- рисполепт;
- галоперидол;
- клозапин;
- промазин и др.
- Инсулиновая кома. При вводе определенной дозы препарата, у больного тормозится прогрессия заболевания. В зависимости от фазы, формы недуга, врач назначает время и дозу инсулина. Процедура проводится только в условиях стационара клиники и при строгом контроле медперсонала, лечащего врача.
- Стволовые клетки. Благодаря инновациям современных специалистов, удалось не только вызвать стойкую ремиссию, но и излечить психическую болезнь. Незрелые клетки в организме человека способны обретать функции, формы органов, рядом с которым расположены. Но в них нет патологий, вызывающих болезни.
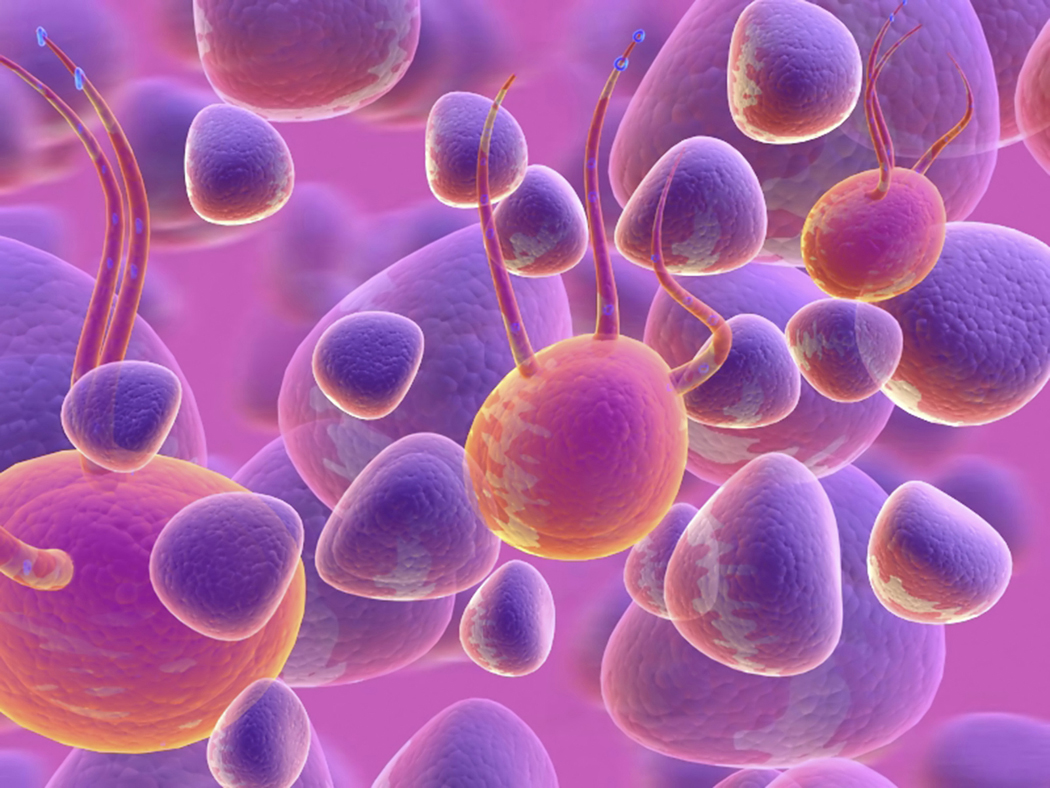
Общим методом, используемым в эпидемиологических исследованиях, является использование недорогих и удобных вопросников для поиска работы в качестве первого шага, за которым следует вторая фаза, в которой затем используются более сложные процедуры оценки. Скринированные объекты и контрольные группы После сбора данных информация будет обрабатываться с помощью соответствующего алгоритма, будь то клиническое суждение, применение диагностических критериев или правило статистического решения.
Поиск факторов риска
Таким образом, субъект считается «больным» или «здоровым», тревожным, подавленным, психотическим или нет, в зависимости от определения, данного в начале «случая» для целей исследования. Развитие психофармакологии, генетики, психопатологии, биологии и совершенствование методов диагностики ввело новую модель эпидемиологии психических расстройств. В этом подходе зависимые переменные должны быть дискретными нозографическими объектами; действительно, если мы путаем все психические расстройства.
Лечение стволовыми клетками достаточно часто практикуется для снятия диагноза «шизофрения»
Переполох в психиатрии вызвало открытие ученых из ирландского университета о генной терапии. Судя по их убеждениям, шизофрения вызывается при объединении всего 4-х видов генов, если устранить данную проблему, то можно снять диагноз «шизофрения» и забыть не только о психических расстройствах, но и эпилепсии, депрессиях и других недугах, связанных с нарушением работы мозга.
Вместе, вариации заболеваемости могут остаться незамеченными. Независимые переменные многочисленны, от генетических факторов до психосоциальных факторов. Традиционный подход к причинам заболевания, когда акцент делается на наличии фактора как условия, по крайней мере необходимого для начала заболевания, больше не подходит для изучения психических расстройств, Как и в случае с хроническими заболеваниями в медицине, открытие небрежного характера пеллагры оставалось уникальным примером.
Необходимость многофакторной модели объяснения включает исследование и идентификацию факторов риска для психических заболеваний. Фактор риска - это характеристика, связанная с более высокой вероятностью болезни, которая сама по себе недостаточна для установления ее причинности. Одной из целей эпидемиологических исследований является выявление среди известных факторов риска психических расстройств тех, которые имеют причинную роль и на которых действие позволит уменьшить частоту возникновения расстройства или его рецидивов в определенной популяции.
Как снять диагноз «шизофрения» у психиатра
Чтобы в медицинской карте больше не стоял неприятный диагноз, необходимо набраться терпения и пройти определенные этапы. В первую очередь, врач психиатр наблюдает за пациентом на протяжении 5 лет. При этом у больного не должно быть рецидива и сохраняться стойкая ремиссия. Учитывается полное отсутствие психических расстройств, требующих лечения, нахождения в клинике и приема лекарств.
В нынешнем состоянии знаний маловероятно, что причинно-следственные связи между конкретным и изменяемым фактором и заболеванием могут быть идентифицированы, но исследования показывают, что несколько факторов риска переплетаются и что эти взаимодействия приводят к порогу, выше которого появляется болезнь, а возможности для вмешательства и профилактики основаны на знании ассоциации и синергии между различными известными факторами риска.
Среди факторов риска, которые были изучены больше всего, можно провести различие между биологическими или генетическими переменными и психосоциальными переменными. Генетические и биологические переменные: Семейные исследования, исследования близнецов и усыновления - это пути, по которым была проверена гипотеза генетической передачи восприимчивости к болезням, а также ее возможный характер. Некоторые маркеры были тщательно изучены. Некоторыми нейрофизиологическими, фармакологическими и биологическими переменными являлись исследования, а также аватары.
Чтобы снять диагноз «шизотипическое расстройство», требуется подать заявление в психоневрологический диспансер на имя главного врача, пройти экспертизу. Необходима госпитализация пациента на срок от 2-х до 3-х недель без назначения медикаментозного лечения. Проводится тестирование и методы дифференциальной диагностики состояния, после чего снимается диагноз или нет.
Соматическое разнообразие. Психосоциальные переменные: риск различных заболеваний варьируется в зависимости от возраста, пола и этнической принадлежности испытуемых. Например, риск небиполярного аффективного расстройства в два-три раза выше для женщин, тогда как расстройства личности в четыре-пять раз выше для мужчин. В отношении социального класса была широко продемонстрирована обратная связь между риском для шизофрении и небиполярным аффективным расстройством. Профессиональная деятельность, место жительства, семейное положение также постоянно связаны с более значительными относительными рисками для различных типов психопатологии, а также менее легкими переменными для измерения из-за недихотомического характера: нищеты, образа жизни, доступа здравоохранение и стресс.
Как снять диагноз «шизотипическое расстройство» без согласия лечащего врача? В случаях, когда обследуемый не согласен с выводами психиатра, есть возможность подать иск в судебную инстанцию и пройти дополнительное обследование с переосвидетельствованием. Дополнительно работает комиссия из других специалистов в психиатрии и пишется заключение, которое направляется в ПНД по месту проживания (регистрации) пациента.

Шизофреники, как правило, страдают расщеплением личности
Мне поставили диагноз «шизофрения» — как жить дальше
Не страшно заболевание, как его рисуют обыватели и дилетанты, не понимающие толк в медицине. Именно из-за них жизнь больного человека меняется в худшую сторону. Душевные терзания и полное разочарование мучают и близких пациента. Существует термин «самостигматизация», при котором человек узнает о своей болезни и ставит на будущем «жирный крест». К сожалению, нередко совершаются суицидальные поступки. Предлагаем ознакомиться с мифами, которые легко развенчиваются:
- Шизофрения — тяжкая форма психической болезни. Недуг относится к загадочным видам заболевания и большинство докторов еще не определились — это состояние или болезнь. Но вовремя обратившись к врачу, можно быстро прийти в норму и продолжать качественное существование.
- Все шизофреники страдают расщеплением собственной личности. Данный симптом в редких случаях сопровождает недуг. Если он и возникает, то не обязательно, что человек будет вести себя агрессивно, чаще возникают устойчивые позитивные действия по отношению к окружающим, проявляются они в легкой форме.
- Больной человек обязательно станет слабоумным. При своевременной терапии, никаких тяжелых последствий не наступит. Напротив, возможна концентрация внутреннего потенциала и развитие особых способностей.
Важно: среди бывших пациентов ПНД часто встречаются музыканты, художники, дизайнеры, математики, шахматисты и т.д.
- Шизофрения — общественно опасное заболевание. Во-первых, недуг совершенно не заразен. Даже генетическая природа психических расстройств ставится большинством специалистов под сомнение. Во-вторых, среди пациентов редко встречаются агрессивные лица, а если пройдена адекватная терапия, то о проблемах можно не задумываться. Среди здоровых членов общества гораздо больше лиц с агрессией, гневом и неправомерными поступками.
- Болезнь неизлечима. По данным исследователей, примерно в четверти случаев у больных наблюдается всего один психический срыв без рецидива. Только малая часть пациентов страдает недугом в последующей жизни и то в случае отказа от лечения.
- При психическом недуге больного на всю жизнь положат в клинику. Врачам нет необходимости держать в стационаре здорового человека, которому за короткий период купировали состояние. Достаточно далее наблюдаться у врача и следовать рекомендациям специалиста.

Шизофрения считается общественно опасной болезнью
В наше время заболевания любой сложности можно вылечить, а если возникла очень сложная форма, то существуют дополнительные, более радикальные методы лечения. Проблема также заключается в том, что после постановки диагноза, больной замыкается в себе, отказывается от общения с окружающими, что усугубляет состояние. Главное не паниковать, вовремя предпринять адекватные меры с опытным врачом. Успех лечения психических патологий напрямую зависит от настроя больного и его родных, что многократно доказано официальной медициной.
Как устанавливается диагноз?
До того, как начать лечение, пациент имеет право получить полное представление о том, чем он болен, о том, какие методы лечения его болезни существуют, а также о том, почему врач считает разумным применить именно данный метод лечения, а не какой-нибудь другой. Важно подчеркнуть, что Закон требует предоставить пациенту всю эту информацию в доступной для него форме.
Иными словами, доктор должен позаботиться о том, чтобы пациент ясно понимал, о чем ему рассказывают. И тут чаще всего возникает недоуменный вопрос: "На каком основании Вы поставили этот диагноз? Ведь помимо беседы, Вы не использовали никаких дополнительных методов исследования! Откуда же берется уверенность, что Вы правильно распознали болезнь?"
То, что психиатр чаще всего не располагает возможностью опереться в своей диагностической работе на результаты так называемых объективных методов исследования - истинная правда. Излишне говорить, что это не вина его, а беда: насколько было бы легче, если бы, например, шизофрению можно было бы распознать по анализу крови!
Но таких анализов нет, и психиатру в своей диагностической работе чаще всего приходится опираться не на лабораторные, а на так называемые клинические данные.
В этом-то и заключается специфика работы врача-психиатра.
Но этого мало. Ведь клинические данные тоже бывают разные: одно дело, когда врач располагает так называемыми объективными признаками болезни (бледность, чрезмерная худоба, боль при прощупывании живота и т.п.) Казалось бы, совершенно другую - гораздо меньшую - ценность имеет рассказ пациента; а ведь психиатр практически только на него и опирается!
Вот люди и удивляются, и спорят. "Ну, хорошо, - говорят они. - Допустим, в деревне у терапевта нет возможности послать больного на рентген. Но ведь если больной жалуется на кашель, врач не скажет сразу, что у него воспаление легких, а послушает стетоскопом или хоть ухом, и услышит в легких определенные хрипы. На этом основании будет поставлен диагноз! А психиатру что-то наговорили, и, пожалуйста - диагноз готов! Да мало ли что можно наговорить!"
Попробуем разобраться.
Заметим для начала, что к тому моменту, когда опытный терапевт заканчивает расспрос пациента и приступает к выслушиванию его легких с помощью стетоскопа, диагноз у него может быть уже практически готов: жалобы и облик больного уж очень характерны. Данные выслушивания только подтверждают (и, конечно, уточняют) диагноз. Но самое интересное даже не в этом.
Стоит подумать о том, откуда врач знает, что именно те хрипы, которые он слышит в груди больного, свидетельствуют о воспалении легких? Ведь мало ли, что можно услышать, прижав стетоскоп к телу! Одежда шуршит, волоски на коже пациента трутся о мембрану и издают звуки, курит больной последние сто лет, и от этого у него в груди целый оркестр пищит и свистит... Как же врач выделяет хрипы, которые говорят о воспалении легких?
Он их узнает. Он просто слышал такие звуки очень много раз, и теперь он узнает их точно так же, как узнают люди на улице своих знакомых. Ведь когда мы встречаем на улице Ивана Ивановича, мы не требуем у него паспорт, прежде чем поздороваться! Вот так и терапевт узнает эти хрипы "в лицо". Но не только терапевт узнает хрипы; любой врач обязан "узнавать в лицо" симптомы болезней, с которыми он имеет дело. Иначе он просто не сможет работать. Психиатр - не исключение. Он работает именно так.
Не имеет значения то обстоятельство, что психиатр сталкивается с другими проявлениями болезни - не с болями или другими неприятными ощущениями в теле, а с нарушениями взаимоотношений с окружающим миром.
Важно то, что имеющиеся расстройства вызваны болезнью; поэтому они стандартны, как и их описание в устах больного. Поэтому его рассказ так же узнаваем, как хрипы в легких, возникающие при их воспалении.
Поэтому симптомы психических расстройств так же объективны, как те симптомы других болезней, которые распознаются без помощи лаборатории, рентгена или специальных инструментов. Бывает, что при первом визите диагноз поставить трудно, для этого требуется более длительное и пристальное наблюдение за больным, дополнительные методы исследования. В таких случаях ему предлагают госпитализацию
ТАК КАК ЖЕ ВСЕ-ТАКИ?
Как распознают отдельные признаки болезни. Объективность психопатологических симптомов.
Как распознают синдром, или
почему на вопросы врача больной чаще всего отвечает «Да».
Как же все-таки диагностируют психические заболевания?
Когда мне было лет десять, моя мама очень поздно приходила домой. Жить было трудно, и она вечно брала «сверхурочную работу». К ее приходу я уже ложился спать, но, дожидаясь ее, не засыпал и радовался, услышав в тишине ночной улицы стук маминых каблуков.
Как описать, чем стук ее каблуков отличался от стука каблуков других женщин? Я не знаю. Не берусь. Но узнавал я его безошибочно. Мне кажется, я бы и сегодня его узнал.
О том, почему медицине нельзя научиться заочно.
В медицинских институтах не бывает заочного отделения. Нашей профессии заочно научиться нельзя. Конечно, все симптомы, все синдромы и все болезни описаны в учебниках и руководствах. Эти описания необходимы. Они дают возможность примерно представить себе, как выглядит то или иное расстройство, узнать каково его происхождение и значение.
Но распознать симптом по описанию в учебнике невозможно, как невозможно узнать человека по его описанию в милицейской «ориентировке» («рост средний, лицо овальное, волосы русые...»)
Совершенно необходимо, чтобы преподаватель говорил студенту-медику: «Приложи стетоскоп вот сюда. Нет-нет, чуть левее. Чуть выше. Слышишь шум?». Совершенно необходимо, чтобы преподаватель повторял это много раз, потому что много раз студент будет удивляться и говорить, что у сегодняшнего больного шум совсем не такой, как у вчерашнего.
И только со временем, вдосталь поспорив с преподавателем, он вдруг умолкнет, потому что однажды, выслушивая очередного пациента, он вдруг услышит нечто очень знакомое. Он вспомнит, что это «знакомое» было у всех больных, которых его заставляли выслушивать. Что шумы, которые он у них слышал, отличались друг от друга не больше, чем меняется человек, когда снимает пижаму и надевает пиджак и галстук. Он поймет, что научился узнавать симптом, как узнают походку матери.
Симптомы (точнее, клинические симптомы, то есть те, которые можно обнаружить при расспросе и осмотре больного, а не путем анализов) распознаются именно так - узнаванием. Это в равной мере относится ко всем симптомам - простым и сложным, соматическим и психопатологическим. Психопатологические симптомы, точно так же, как симптомы соматические, существуют объективно. Их нельзя выдумать. То, что такой симптом выявляется с помощью расспроса или наблюдения, а не с помощью стетоскопа, не делает его менее узнаваемым.
То, что психопатологические симптомы тоже распознаются «узнаванием», обычно вызывает недоумение. «Как же так? - говорят оппоненты. - Если человек бледен или худ, мы понимаем: доктор это видит. Если у него шум в сердце или хрипы в легких, мы тоже понимаем: доктор их слышит через свою трубочку. Наверное, правда, что шумы и хрипы бывают разные, и мы согласны, что врач должен уметь узнавать эту разницу.
Но ведь и худоба, и бледность, и шумы, и хрипы существуют объективно. Они не зависят от того, что говорит больной. А ваши так называемые психопатологические симптомы - это что такое? То, что больной рассказывает? Но ведь он что хочет, то и рассказывает! Проверить ведь ничего нельзя! О каком же узнавании может идти речь? А если он просто выдумывает?»
В возражениях оппонентов есть своя правда. Люди, действительно, могут выдумывать - и здоровые, и больные.
Когда я был студентом и начал изучать психиатрию, я получил первого в своей жизни больного. Мой пациент выглядел мрачно, горло у него было перевязано грязным бинтом. Я примостился рядом, и он поведал мне свою историю - вот уж, действительно, «нет повести печальнее на свете»!
Он служил в армии, а когда вернулся, оказалось, что мать его умерла, дом сгорел, а невеста вышла за другого. Он этого дела не выдержал и - глупо, конечно, - но решил умереть. И перерезал себе горло. Умереть не умер, а попал в психиатрическую больницу («у нас ведь, сами знаете, если на себя руки наложил, значит, сошел с ума»),
Я был возмущен. На следующий день я докладывал своего больного на занятии. Наш преподаватель (он был умный человек и хороший психиатр) внимательно слушал. Я кончил пламенную речь и замолк. «Ну, коллега, - сказал он, - что же вы замолчали? Ваше заключение?» Я стоял, многозначительно по-тупясь. «Говорите, - ободрил меня преподаватель, - не стесняйтесь. Вы, видимо, полагаете, что произошла ошибка, и что парень лежит в больнице напрасно?» Я с достоинством согласился, что именно так я и думаю. «Бывает, - сказал он, - давайте посмотрим».
Позвали больного. «Здравствуйте, - сказал преподаватель. - Ну, как шпионы?» «Кошмар, - ответил больной. - Допекли меня совсем. Вчера один приходил под видом студента. Ну, я ему такого наплел...»
Не стану описывать, что я почувствовал. В свое оправдание могу только сказать, что этот первый свой опыт я запомнил на всю жизнь.
В чем заключалась моя ошибка?
Нетрудно было догадаться, что раз мне предложили поговорить с больным, то уж, наверное, какие-то психопатологические расстройства у него есть. В истории, которую рассказал больной и которую я так незадачливо пересказал на занятии, нельзя было узнать ни одного симптома. Я обязан был сообразить, что это значит: пациент не хочет их со мной обсуждать (почему не хочет - другой вопрос). Я должен был расспрашивать пациента снова и снова и, если бы мои старания так и не увенчались успехом, должен был честно сказать, что ни одного симптома выявить не смог.
Все, что говорит врачу больной, можно разделить на две части. К первой относится все то, что не имеет отношения к симптомам болезни - неважно, правдивы эти рассказы или нет. Вторая часть содержит описание симптомов.
Обе части принципиально отличаются друг от друга. Все что относится к первой из них, - продукт жизненного опыта каждого человека. Поэтому рассказы, составляющие эту часть разнообразны, как сама жизнь. Симптом - явление, которое с жизненным опытом больного не связано. Оно - продукт болезни, и у тысяч людей, заболевших этой болезнью, - старых и молодых, умных и глупых, образованных и неграмотных, - возникает одно и то же явление.
Поэтому во второй части своих рассказов все больные говорят одно и то же. От их личных качеств, разумеется, зависит, как они это делают, но (в принципе) это та самая разница, которую мы слышим у разных больных с одним и тем же шумом в сердце. Конечно, бойкий на язык и молчаливый будут описывать
Знаете, как в сложнейшем сплетении звуков симфонии вдруг слышишь знакомую тему? Примерно того же ждет и психиатр, расспрашивая своего пациента.
«Ну, что же, довольно убедительно звучит, - скажут оппоненты. А ведь вы, психиатры, все равно слышите только рассказ. Сколько бы ни говорить о его шаблонности, рассказ есть рассказ, и это очень ненадежная штука. А что, если ваш женоубийца просто прочитал про бред ревности в учебнике и потом говорил то, что в таких случаях полагается?
Щум в сердце по своей воле не создашь, а пересказать учебниик Дело не больно хитрое! О какой же объективности можно тут говорить?»
Конечно, описание бреда ревности (и любого другого психопатологического симптома) можно прочесть в книжке и добросовестно пересказать все прочитанное. Поэтому кажется, что симулировать психическое расстройство не составляет большого труда и, следовательно, все разговоры об объективности этих симптомов - просто борьба за честь мундира. Однако это только кажется.
Шум в сердце - это не просто звук, которого не должно быть в норме. Это особый звук, он имеет свой характер, свой оттенок, свою локализацию. Описать все эти детали невозможно; поэтому нельзя стать врачом, читая учебник; поэтому преподавателю приходится много раз смотреть, куда прикладывает свой стетоскоп студент, и требовать, чтобы он переместил его «чуть левее» или «чуть выше».
Когда студент научится улавливать все эти детали, он сможет идентифицировать шум в качестве определенного симптома, отличая его от других, более или менее на него похожих, - например, он научится отличать шум в сердце от тех звуков, которые возникают от прикосновения стетоскопа к телу больного. Их очень много, этих звуков, и, кстати говоря, они - по неопытности студента - с большим успехом «симулируют» сердечные шумы. Преподаватель сначала не понимает, о чем студент спрашивает (сам он этих звуков просто не слышит), а когда поймет, - удивится: «О чем ты говоришь?! Это же просто волосок прошелестел по мембране стетоскопа!»
Поэтому медицине нельзя научиться заочно. Слишком много мелочей - очень важных мелочей! - встречается на каждом шагу, и эти «мелочи» решают дело. Именно они делают каждый симптом самим собой и позволяют его узнать.
Так что симулянту придется не просто пересказать учебник. Он должен знать не только что рассказать, но и как рассказать. Он должен учесть все «мелочи», чтобы его рассказ содержал все оттенки и детали, присущие тому симптому, о котором идет Речь... Если мы имеем дело не с симулянтом, а с больным человеком, все эти детали и оттенки всегда содержатся в его рассказе. Они и придают этому рассказу объективный характер.
О том, почему так трудно симулировать.
Но все-таки, - спросит оппонент, - все-таки очень интересно: можно симулировать психическое расстройство? Ведь об этом столько говорят и пишут, столько об этом фильмов и книг...
Теоретически - можно. Можно представить себе блестящего актера, который одновременно - блестящий психиатр. Можно представить себе, что успех симуляции для него - жизненная необходимость. Наконец, можно представить себе, что симулировать ему придется не слишком долго. Тогда - пожалуй.
Практически это почти невероятно. Разве что психиатр неопытен или ему все равно. Такие варианты мы обсуждать не станем, потому что если человек делает свою работу плохо, то может случиться все, что угодно.
Но ведь это еще не все. С «узнавания» симптома работа только начинается. Ни один врач - конечно, и психиатр в том числе, - не строит диагностические предположения на основании только одного симптома.
Симптомы никогда не появляются в одиночестве. Их непременно сопровождают «родственники». Нетрудно понять почему: ведь представление об изолированном, чистеньком, препарированном симптоме - не более чем абстракция, придуманная людьми, чтобы легче было изучать предмет. Когда человек заболевает, у него возникает болезненное состояние, которое всегда состоит из многих симптомов. В природе симптом существует только в структуре синдрома.
Распознавание симптома - это только самое начало диагностической работы, ее первый, скорее даже не первый, а предварительный ее этап. Сделав это, врач определяет направление своих дальнейших размышлений (как говорят, «очерчивает круг дифференциальной диагностики»). Он ведь знает, в структуре каких синдромов этот симптом может возникнуть1. И он начинает задавать пациенту вопросы, смысл которых состоит в выявлении других симптомов, тех, которые в данном случае составляют его «родню».
Родственники бывают разные - близкие и дальние, по отцу и по матери, тетки и племянники, сватья, зятья, невестки и так далее. Когда с ними встречаешься, ведешь себя по-разному, потому что одна компания может сильно отличаться от другой: все зависит от того, какие именно родственники собрались за столом. Примерно так же обстоит дело и с симптомами.
У каждого из них тоже много «родни», и он встречается то в одной «компании», то в другой. Подобно хозяину застолья, «поведение» симптома зависит от «компании»: в структуре каждого синдрома симптом приобретает характерные особенности, отличные от тех, которые обнаруживаются у него в структуре другого.
Поэтому, как только симптом распознан, врач задает пациенту новые вопросы, направленные на то, чтобы определить имеющиеся у него особенности симптома: они подскажут, какова его «сегодняшняя компания», или хотя бы позволят исключить из дальнейших размышлений некоторые из тех, которые в принципе возможны.
У больного человека все подобные особенности обязательно выявляются. Симулянту придется их выучить и изобразить. Разумеется, ему придется выучить и «состав компании», на которую указывают эти особенности, а через несколько минут он столкнется с необходимостью «представить каждого из ее членов», то есть описать те другие симптомы, из которых складывается данный синдром.
И каждый раз придется описывать новые особенности, - ведь они есть у всех симптомов, из которых состоит синдром, и у каждого симптома эти особенности свои. Обмануть опытного психиатра - воистину непосильная задача...
Во время консилиума, когда несколько врачей осматривают пациента, и каждый задает ему свои вопросы, бывает очень занятно подсчитывать, насколько часто пациент отвечает «Да». Чем опытнее врач, тем чаще такие ответы. Тем чаще пациент с изумлением восклицает: «Доктор! Откуда вы знаете?.. Это именно так и есть!»
Опытный врач, сам того не осознавая, уже с первых минут беседы с больным распознает и учитывает множество деталей, - точно так же, как мы поступаем, узнавая в толпе своего знакомого. Как больной держится, как разговаривает, свободен он или напряжен, откровенен или скрытен, доверчив или подозрителен, - все эти тонкости непременно принимаются во внимание, потому что они могут быть важными «подсказками», определяющими направление дальнейших расспросов.
Эти «подсказки» - тоже симптомы. Пока пациент излагает свою основную жалобу, - ту, которая привела его на прием, - врач распознает не только тот симптом, о котором говорит пациент, но и несколько других. В результате та «компания», в которой встретился основной симптом, становится для врача более или менее понятной. Дальнейшие его вопросы направлены на то, чтобы уточнить сложившееся у него представление, подтвердить или опровергнуть предположение о том конкретном синдроме, который определяет состояние пациента.
Зачем врачу это нужно?
Вопрос о том, не симулянт ли перед ним, в реальной работе психиатра возникает редко (если не говорить о специфических ситуациях, таких, например, как судебно-психиатрическая экспертиза). Но, поскольку мы уже заговорили о симуляции, закончим с этой темой. Если у пациента можно выявить только один симптом (каким бы безошибочным ни представлялось его «узнавание»), - врач встретился с симулянтом. Это, как модно сейчас говорить, однозначно. Но этого мало.
Если симулянт описывает несколько симптомов, но их сочетание случайно, не соответствует тому, что бывает в природе, - он немедленно разоблачается. Если он пытается описать целый синдром (надо же, какой молодец!), но составляющие этот синдром симптомы не обнаруживают неповторимой окраски, которая свойственна каждому из них при всяком естественном их сочетании - он опять-таки разоблачается, только чуть позже. Поэтому первая (обычно не слишком актуальная) надобность в квалификации синдрома с учетом особенностей всех составляющих его симптомов - это исключить симуляцию.
В повседневной работе врача идентификация синдрома направлена на решение других, практически гораздо более важных задач. Во-первых, необходимость и характер неотложной помощи больному часто диктуется именно синдромом, а не болезнью. Если у человека случился гипертонический криз (а это синдром, состояние), его нужно как можно скорее устранить; способы борьбы с гипертоническим кризом мало зависят от того, возник ли он в результате гипертонической болезни или заболевания почек. Во-вторых, квалификация синдрома - первый шаг к распознанию болезни.
В психиатрии это особенно трудный этап диагностики. Ведь мы, психиатры, действительно лишены тех огромных диагностических возможностей, которыми располагают другие отрасли медицины. Мы не можем ни высеять микроб, возбудивший болезнь, ни обнаружить недостаток или избыток какого-нибудь вещества в крови пациента.
Поэтому самые распространенные психические болезни (шизофрению, расстройства настроения, неврозы) распознаются только по их клинической картине. Нам пришлось так много говорить о том, что есть болезнь, потому что для психиатра это представление - насущная необходимость, инструмент диагностики, основа его профессионального мировоззрения.
О том, почему психиатр так долго расспрашивает пациента.
Как уже говорилось, диагностические критерии МКБ10 стандартны и просты. Вот, например, как диагностируется в этой системе шизофрения. Приведен список, который содержат перечень двух групп симптомов. В первой из них - четыре самых тяжелых, во второй - пять более легких. Далее сказано, что «обычным требованием для диагностики шизофрении является наличие, как минимум, одного четкого симптома (или двух менее отчетливых симптомов), принадлежащего к первой группе, или двух симптомов из второй группы, которые должны отмечаться на протяжении большей части эпизода длительностью один месяц или более».
Всё. Диагностический процесс закончен. Единственное, что мы узнаем из такого диагноза, - у больного был какой-то (или какие-то) из нескольких известных симптомов, и эти симптомы держались у него не меньше месяца. Правда, это мы знаем наверняка. Но, ох, как этого мало. Поэтому психиатр, обладающий нозологическим мировоззрением, прибегает к «двойной бухгалтерии»: он быстро ставит диагноз МКБ10 в официальном документе и долго размышляет над тем, чем же страдает его пациент на самом деле.
Размышлять об этом иногда приходится неделями и месяцами. Есть случаи, которые так и остаются неясными, а есть такие, которые уверенно (но по-разному!) диагностируются представителями разных школ. Но с точки зрения науки, с точки зрения возможности когда-нибудь все-таки узнать точно, что такое психические болезни и отчего они бывают, этот путь представляется более перспективным.
Сделаем рискованное утверждение. Шизофрению тоже можно «узнать в лицо», не утруждая себя длительным исследованием больного. Как это получается, описать невозможно, как, по-видимому, вообще невозможно описать «технологию узнавания». Но это знает каждый опытный психиатр.
Существует даже старый термин, созданный на смеси латинского и немецкого языков, - «Praecox Gefuhl», что в вольном переводе означает «чутье на шизофрению». «Praecox Gefuhl» срабатывает (и подтверждается) настолько часто, что это наверняка не случайность.
Как-то раз одна из крупных представительниц нашей профессии была в кино. На следующий день за чаепитием коллеги обсуждали фильм. «А знаете, - сказала она, - ведь актриса N. больна. Как бы не пришлось нам ее лечить...» Через несколько лет (!) после этого разговора N. поступила в нашу клинику.
Понятно, такое «узнавание» никогда не кладется в основу диагноза. Однако оно существует; это значит, что облик больного шизофренией, его манера держаться и жестикулировать, особенности его походки и речи, - все это содержит подсказки, которые представляют собой тончайшие, никем еще не описанные симптомы. Возможно, именно они и являются специфичными для шизофрении, составляя ядро симптоматики всех ее форм и вариантов. Разумеется, диагноз ставят, основываясь на более структурированной информации.
Вернемся к тому моменту, на котором мы остановились, - к моменту, когда доктор понял, каково состояние его пациента, когда он распознал возникший у него синдром.
Каждый, кого хоть раз в жизни подробно осматривал врач, знает, что он обычно задает вопросы, вроде бы никакого отношения к болезни не имеющие. У психиатра таких вопросов особенно много. Когда и где родились, чем болели, как учились, кем работали, много ли друзей, есть ли дети и во что с ними играете, что предпочитаете кушать на второе и так далее, и тому подобное.
Получается, что пациент подробнейшим образом рассказывает доктору свою биографию и часто недоумевает - зачем это понадобилось. Помните булгаковского Иванушку, который «попал в какой-то таинственный кабинет затем, чтобы рассказывать всякую чушь про дядю Федора, пившего в Вологде запоем»?
Психиатру биография пациента вовсе не нужна. Он использует ее факты и события, чтобы узнать, каким был пациент в последовательные периоды его жизни. Хорошая история болезни - не биография, а психологический портрет пациента во времени. Такой портрет позволяет понять, когда в душевном состоянии пациента появились первые симптомы, и какие именно.
Если это удастся, мы, во-первых, узнаем, давно ли возникла болезнь, во-вторых, постараемся выяснить, какой синдром возник первым в ее течении. Потом понадобится выяснить, какой синдром возник вслед за первым, какой был следующим, - и так далее, сколько уж их наберется до сегодняшнего дня. Иными словами, психиатр старается восстановить картину болезненного расстройства во всей ее совокупности - так, как требовал еще Крепелин.
В результате этой кропотливой работы психиатр получит материал для диагноза болезни. Ах, если бы можно было просто сделать анализ крови! Сколько времени и сил можно было бы сберечь, сколько сэкономить чернил, потраченных на дискуссии! Но нет такого анализа, и приходится базировать свои диагностические построения совсем на другом принципе.
Каждая болезнь имеет собственный, присущий только ей стереотип развития, учил, вслед за Крепелином, А. В. Снежневский. Что это значит? Мы знаем - один и тот же симптом встречается при разных синдромах. Мы знаем, что и синдром - один и тот же! - может встречаться при разных болезнях. Поэтому и синдром, и, тем более, симптом говорят о диагнозе мало. О нем говорит определенная последовательность появления определенных синдромов.
Проще говоря: допустим, что существуют синдромы А, В, С и О. Если заболевание протекает, как А -»¦ В -* С -> Э, это болезнь «X», если О -»¦ А -1 В -> С, то это болезнь «У», а если Э -> В -¦ С -»А, то это болезнь «2». Для того чтобы решить, которой из этих трех болезней страдает наш пациент, нужно, во-первых, выявить в истории его болезни эти синдромы, а во-вторых, установить, в какой последовательности они у него появлялись. Как только это удастся, диагноз готов. (Разумеется, это всего лишь очень грубая схема.)
Можно, конечно, поставить диагноз «X», не дожидаясь появления синдрома «О» или даже «С». Больной ведь не обязательно будет дожидаться последнего в этой цепочке состояния, он может обратиться за помощью гораздо раньше, к чему кстати говоря, врачи настойчиво призывают. Что тогда получится? Тогда врач сможет ответить на почти обязательный вопрос своего пациента «Доктор, а что со мной будет дальше?»
Будет «С», а потом - «Э». Поставив диагноз болезни, врач получил возможность прогноза. Это очень важно и практически (нужно ведь ответить пациенту на его вопрос), и теоретически, потому что оправдавшийся прогноз подтверждает диагноз. Кроме того, конечно, каждый оправдавшийся прогноз - лишнее доказательство, что психические болезни действительно существуют в природе, а не выдуманы нами, психиатрами.
Таковы критерии распознавания самых частых психических болезней. Наука не стоит на месте, и диагноз некоторых заболеваний - болезни Альцгеймера, например, - теперь можно надежно подтвердить данными компьютерной томографии. Но шизофрения, аффективные болезни и неврозы диагностируются сегодня именно так.
Это создает сложности (и академические, и практические, и социальные), но что же делать. Ведь не всегда же, прежде чем поздороваться с приятелем, мы требуем у него паспорт. Бывает, что и так не ошибаемся.
Отрывок из книги "Психиатрия наука или искуство?"
Ротштейн В.Г.



